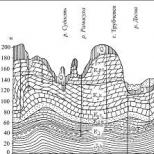Что означает мамаево нашествие. Мамаево нашествие. Сборы русских против Мамая
Жизненные противоречия с детских лет вошли в душевный мир сатирика. Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Отец писателя принадлежал к (*5) старинному дворянскому роду Салтыковых, к началу XIX века разорившемуся и оскудевшему. Стремясь поправить пошатнувшееся материальное положение, Евграф Васильевич женился на дочери богатого московского купца О. М. Забелиной, властолюбивой и энергичной, бережливой и расчетливой до скопидомства. Михаил Евграфович не любил вспоминать о своем детстве, а когда это волей-неволей случалось, воспоминания окрашивались неизменной горечью. Под крышей родительского дома ему не суждено было испытать ни поэзии детства, ни семейного тепла и участия. Семейная драма осложнилась драмой общественной. Детство и молодые годы Салтыкова совпали с разгулом доживавшего свой век крепостного права. "Оно проникало не только в отношения между поместным дворянством и подневольною массою - к ним, в тесном смысле, и прилагался этот термин,- но и во все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сословия (привилегированные и непривилегированные) в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным". Юноша Салтыков получил блестящее по тем временам образование сначала в Дворянском институте в Москве, потом в Царскосельском лицее, где сочинением стихов он стяжал славу "умника" и "второго Пушкина". Но светлые времена лицейского братства студентов и педагогов давно канули в Лету. Ненависть Николая I к просвещению, порожденная страхом перед распространением свободолюбивых идей, обратилась прежде всего на лицей. "В то время, и в особенности в нашем "заведении",- вспоминал Салтыков,- вкус к мышлению был вещью очень мало поощряемою. Высказывать его можно было только втихомолку и под страхом более или менее чувствительных наказаний". Все лицейское воспитание было направлено тогда к одной исключительно цели - "приготовить чиновника". Юный Салтыков восполнял недостатки лицейского образования по-своему: он с жадностью поглощал статьи Белинского в журнале "Отечественные записки", а по окончании лицея, определившись на службу чиновником Военного ведомства, примкнул к социалистическому кружку М. В. Петрашевского. Этот кружок "инстинктивно прилепился к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что "золотой век" находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное - все шло оттуда". (*6) Но и здесь Салтыков обнаружил зерно противоречия, из которого выросло впоследствии могучее дерево его сатиры. Он заметил, что члены социалистического кружка слишком прекраснодушны в своих мечтаниях, что они живут в России лишь "фактически" или, как в то время говорилось, "имеют образ жизни": ходят в канцелярию на службу, питаются в ресторанах и кухмистерских... Духовно же они живут во Франции, Россия для них представляет собой "область, как бы застланную туманом". В повести "Противоречия" (1847) Салтыков заставил своего героя Нагибина мучительно биться над разгадкой "необъяснимого феникса" - русской действительности, искать пути выхода из противоречия между идеалами утопического социализма и реальной жизнью, идущей вразрез с этими идеалами. Герою второй повести - "Запутанное дело" (1848) Мичулину тоже бросается в глаза несовершенство всех общественных отношений, он также пытается найти выход из противоречий между идеалом и действительностью, найти живое практическое дело, позволяющее перестроить мир. Здесь определились характерные признаки духовного облика Салтыкова: нежелание замыкаться в отвлеченных мечтах, нетерпеливая жажда немедленного практического результата от тех идеалов, в которые он уверовал.
Вятский плен
Обе повести были опубликованы в журнале "Отечественные записки" и поставили молодого писателя в ряд сторонников "натуральной школы", развивающих традиции гоголевского реализма. Но принесли они Салтыкову не славу, не литературный успех... В феврале 1848 года началась революция во Франции. Под влиянием известий из Парижа в конце февраля в Петербурге был организован негласный комитет с целью "рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы". Правительственный комитет не мог не заметить в повестях молодого чиновника канцелярии Военного ведомства "вредного направления" и "стремления к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу". В ночь с 21 на 22 апреля 1848 года Салтыков был арестован, а шесть дней спустя в сопровождении жандарма отправлен в далекую и глухую по тем временам Вятку. Убежденный социалист в течение многих лет носил мундир провинциального чиновника губернского правления, на собственном жизненном опыте ощущая драматический разрыв между идеалом и реальностью. "...Молодой энтузиазм, политические идеалы, великая драма на Западе и... почтовый (*7) колокольчик. Вятка, губернское правление... Вот мотивы, сразу, с первых шагов литературной карьеры овладевшие Щедриным, определившие его юмор и его отношение к русской жизни",- писал В. Г. Короленко. Но суровая семилетняя школа провинциальной жизни явилась для Салтыкова-сатирика плодотворной и действенной. Она способствовала преодолению отвлеченного, книжного отношения к жизни, она укрепила и углубила демократические симпатии писателя, его веру в русский народ и его историю. Салтыков впервые открыл для себя низовую, уездную Русь, познакомился с жизнью провинциального мелкого чиновничества, купечества, крестьянства, рабочих Приуралья, окунулся в животворную для писателя "стихию достолюбезного народного говора". Служебная практика по организации в Вятке сельскохозяйственной выставки, изучение дел о расколе в Волго-Вятском крае приобщили Салтыкова к устному народному творчеству. "Я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни",- вспоминал писатель о вятских впечатлениях.
С демократических позиций взглянул теперь Салтыков и на государственную систему России. Он пришел к выводу, что "центральная власть, как бы ни была просвещенна, не может обнять все подробности жизни великого народа; когда она хочет своими средствами управлять многоразличными пружинами народной жизни, она истощается в бесплодных усилиях". Главное неудобство чрезмерной централизации в том, что она "стирает все личности, составляющие государство". "Вмешиваясь во все мелочные отправления народной жизни, принимая на себя регламентацию частных интересов, правительство тем самым как бы освобождает граждан от всякой самобытной деятельности" и самого себя ставит под удар, так как "делается ответственным за все, делается причиною всех зол и порождает к себе ненависть". Централизация в масштабах такой огромной страны, как Россия, приводит к появлению "массы чиновников, чуждых населению и по духу, и по стремлениям, не связанных с ним никакими общими интересами, бессильных на добро, но в области зла являющихся страшной, разъедающей силой". Так образуется порочный круг: самодержавная, централизованная власть убивает всякую народную инициативу, искусственно задерживает гражданское развитие народа, держит его в "младенческой неразвитости", а эта нераз-(*8)витость, в свою очередь, оправдывает и поддерживает централизацию. "Рано или поздно народ разобьет это прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его". Но что делать сейчас? Как бороться с антинародной сущностью государственной системы в условиях пассивности и гражданской незрелости самого народа? В поисках ответа на этот вопрос Салтыков приходит к теории, в какой-то мере успокаивающей его гражданскую совесть: он начинает "практиковать либерализм в самом капище антилиберализма", внутри бюрократического аппарата. "С этой целью предполагалось наметить покладистое влиятельное лицо, прикинуться сочувствующим его предначертаниям и начинаниям, сообщить последним легкий либеральный оттенок, как бы исходящий из недр начальства (всякий мало-мальски учтивый начальник не прочь от либерализма), и затем, взяв облюбованный субъект за нос, водить его за оный. Теория эта, в шутливом русском тоне, так и называлась теорией вождения влиятельного человека за нос, или, учтивее: теорией приведения влиятельного человека на правый путь". В "Губернских очерках" (1856-1857), ставших художественным итогом вятской ссылки, такую теорию исповедует герой, от имени которого ведется повествование и которому суждено стать "двойником" Салтыкова,- надворный советник Н. Щедрин. Общественный подъем 60-х годов дает Салтыкову уверенность, что "честная служба" социалиста Щедрина способна подтолкнуть общество к радикальным переменам, что единичное добро, творимое в самом "капище антилиберализма", может принести некоторые плоды, если носитель этого добра держит в уме предельно широкий демократический идеал. Вот почему и после освобождения из "вятского плена" Салтыков-Щедрин продолжает (с кратковременным перерывом в 1862-1864 годах) государственную службу сначала в Министерстве внутренних дел, а затем в должности рязанского и тверского вице-губернатора, снискав в бюрократических кругах кличку "вице-Робеспьера". В 1864-1868 годах он служит председателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. Административная практика открывает перед сатириком самые потаенные стороны бюрократической власти, весь скрытый от внешнего наблюдения потаенный ее механизм. Одновременно Салтыков создает циклы очерков "Сатиры в прозе" и "Невинные рассказы", в период сотрудничества в редакции "Современника" (1862-1864) пишет публицисти-(*9)ческую хронику "Наша общественная жизнь", а в 1868-1869 годах, став членом редколлегии обновленного Некрасовым журнала "Отечественные записки", публикует очерковые книги "Письма о провинции", "Признаки времени", "Помпадуры и помпадурши". Постепенно Салтыков изживает веру в перспективы "честной службы", которая все более превращается в "бесцельную каплю добра в море бюрократического произвола". Реформа 1861 года не оправдывает его ожиданий, а в пореформенную эпоху русские либералы, с которыми он искал союза, круто поворачивают вправо. В этих условиях Салтыков-Щедрин приступает к работе над одним из вершинных произведений своего сатирического творчества - "Историей одного города".
Проблематика и поэтика сатиры "История одного города"
Если в "Губернских очерках" основные стрелы сатирического обличения попадали в провинциальных чиновников, то в "Истории одного города" Щедрин поднялся до правительственных верхов: в центре этого произведения - сатирическое изображение взаимоотношений народа и власти, глуповцев и их градоначальников. Салтыков-Щедрин убежден, что бюрократическая власть является следствием "несовершеннолетия", гражданской незрелости народа. В книге сатирически освещается история вымышленного города Глупова, указываются даже точные даты ее: с 1731 по 1826 год. Любой читатель, мало-мальски знакомый с русской историей, увидит в фантастических событиях и героях щедринской книги отзвуки реальных исторических событий названного автором периода времени. Но в то же время сатирик постоянно отвлекает сознание читателя от прямых исторических параллелей. В книге Щедрина речь идет не о каком-то узком отрезке отечественной истории, а о таких ее чертах, которые сопротивляются течению времени, которые остаются неизменными на разных этапах отечественной истории. Сатирик ставит перед собою головокружительно смелую цель - создать целостный образ России, в котором обобщены вековые слабости ее истории, достойные сатирического освещения коренные пороки русской государственной и общественной жизни. Стремясь придать героям и событиям "Истории одного города" обобщенный смысл, Щедрин часто прибегает к анахронизмам - смешению времен. Повествование идет от лица вымышленного архивариуса эпохи XVIII - начала XIX века. Но в его рассказ нередко вплетаются факты и события более позднего времени, о которых он знать не мог. А Щедрин, (*10) чтобы обратить на это внимание читателя, нарочно оговаривает анахронизмы в примечаниях "от издателя". Да и в глуповских градоначальниках обобщаются черты разных государственных деятелей разных исторических эпох. Но особенно странен и причудлив с этой точки зрения образ города Глупова.
Даже внешний облик его парадоксально противоречив. В одном месте мы узнаем, что племена головотяпов основали его на болоте, а в другом месте утверждается, что "родной наш город Глупов имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается". Не менее парадоксальны и его социальные характеристики. То он является перед читателями в образе уездного городишки, то примет облик города губернского и даже столичного, а то вдруг обернется захудалым русским селом или деревенькой, имеющей, как водится, свой выгон для скота, огороженный типичной деревенской изгородью. Но только границы глуповского выгона соседствуют с границами... Византийской империи! Фантастичны и характеристики глуповских обитателей: временами они походят на столичных или губернских горожан, но иногда эти "горожане" пашут и сеют, пасут скот и живут в деревенских избах, крытых соломой. Столь же несообразны и характеристики глуповских властей: градоначальники совмещают в себе повадки, типичные для русских царей и вельмож, с действиями и поступками, характерными для уездного городничего или сельского старосты.
Чем объяснить эти противоречия? Для чего потребовалось Салтыкову "сочетание несочетаемого, совмещение несовместимого"? Один из знатоков щедринской сатиры, Д. Николаев, так отвечает на этот вопрос: "В "Истории одного города", как это уже видно из названия книги, мы встречаемся с одним городом, одним образом. Но это такой образ, который вобрал в себя признаки сразу всех городов. И не только городов, но и сел, и деревень. Мало того, в нем нашли воплощение характерные черты всего самодержавного государства, всей страны". Работая над "Историей одного города", Щедрин опирается на свой богатый и разносторонний опыт государственной службы, на труды крупнейших русских историков: от Карамзина и Татищева до Костомарова и Соловьева. Композиция "Истории одного города" - пародия на официальную историческую монографию типа "Истории государства Российского" Карамзина. В первой части книги дается общий очерк глуповской истории, а во второй - описания жизни (*11) и деяний наиболее выдающихся градоначальников. Именно так строили свои труды многие современные Щедрину историки: они писали историю "по царям". Пародия Щедрина имеет драматический смысл: глуповскую историю иначе и не напишешь, вся она сводится к смене самодурских властей, массы остаются безгласными и пассивно покорными воле любых градоначальников. Глуповское государство началось с грозного градоначальнического окрика: "Запорю!" Искусство управления глуповцами с тех пор состоит лишь в разнообразии форм этого сечения: одни градоначальники секут глуповцев без всяких объяснений - "абсолютно", другие объясняют порку "требованиями цивилизации", а третьи добиваются, чтоб сами обыватели желали быть посеченными. В свою очередь, в глуповской массе изменяются лишь формы покорности. В первом случае обыватели трепещут бессознательно, во втором - с сознанием собственной пользы, ну а в третьем возвышаются до трепета, исполненного доверия к властям! В описи градоначальников даются краткие характеристики глуповских государственных людей, воспроизводится сатирический образ наиболее устойчивых отрицательных черт русской истории. Василиск Бородавкин повсеместно насаждал горчицу и персидскую ромашку, с чем и вошел в глуповскую историю. Онуфрий Негодяев разместил вымощенные его предшественниками улицы и из добытого камня настроил себе монументов. Перехват-Залихватский сжег гимназию и упразднил науки. Уставы и циркуляры, сочинением которых прославились градоначальники, бюрократически регламентируют жизнь обывателей вплоть до бытовых мелочей - "Устав о добропорядочном пирогов печении".
Жизнеописания глуповских градоначальников открывает Брудастый. В голове этого деятеля вместо мозга действует нечто вроде шарманки, наигрывающей периодически два окрика: "Раззорю!" и "Не потерплю!" Так высмеивает Щедрин бюрократическую безмозглость русской государственной власти. К Брудастому примыкает другой градоначальник с искусственной головой - Прыщ. У него голова фаршированная, поэтому Прыщ не способен администрировать, его девиз - "Отдохнуть-с". И хотя глуповцы вздохнули при новом начальстве, суть их жизни изменилась мало: и в том, и в другом случае судьба города находилась в руках безмозглых властей. Когда вышла в свет "История одного города", критика стала упрекать Щедрина в искажении жизни, в отступлении от реализма. Но эти упреки были несостоятельны. Гротеск и сатирическая фантастика у Щедрина не искажают дейст-(*12)вительности, а лишь доводят до парадокса те качества, которые таит в себе любой бюрократический режим. Художественное преувеличение действует подобно увеличительному стеклу: оно делает тайное явным, обнажает скрытую от невооруженного глаза суть вещей, укрупняет реально существующее зло. С помощью фантастики и гротеска Щедрин часто ставит точный диагноз социальным болезням, которые существуют в зародыше и еще не развернули всех возможностей и "готовностей", в них заключенных. Доводя эти "готовности" до логического конца, до размеров общественной эпидемии, сатирик выступает в роли провидца, вступает в область предвидений и предчувствий. Именно такой, пророческий смысл содержится в образе Угрюм-Бурчеева, увенчивающем жизнеописания глуповских градоначальников. На чем же держится деспотический режим? Какие особенности народной жизни его порождают и питают? "Глупов" в книге - это особый порядок вещей, составным элементом которого является не только администрация, но и народ - глуповцы. В "Истории одного города" дается беспримерная сатирическая картина наиболее слабых сторон народного миросозерцания. Щедрин показывает, что народная масса в основе своей политически наивна, что ей свойственны неиссякаемое терпение и слепая вера в начальство, в верховную власть.
"Мы люди привышные! - говорят глуповцы.- Мы претерпеть могим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить - мы и тогда противного слова не молвим!" Энергии, администрирования они противопоставляют энергию бездействия, "бунт" на коленях: "Что хошь с нами делай! - говорили одни,- хошь - на куски режь, хошь - с кашей ешь, а мы не согласны!" - "С нас, брат, не что возьмешь! - говорили другие,- мы не то что прочие, которые телом обросли! Нас, брат, и уколупнуть негде". И упорно стояли при этом на коленах". Когда же глуповцы берутся за ум, то, "по вкоренившемуся исстари крамольническому обычаю", или посылают ходока, или пишут прошение на имя высокого начальства. "Ишь, поплелась! - говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль,- теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам не долго!" И действительно, в городе вновь сделалось тихо; глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали: как дела? - то отвечали: "Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!" В сатирическом свете предстает со страниц щедринской (*13) книги "история глуповского либерализма" (свободомыслия) в рассказах об Ионке Козыреве, Ивашке Фарафонтьеве и Алешке Беспятове. Прекраснодушная мечтательность и полная практическая беспомощность - таковы характерные признаки глуповских свободолюбцев, судьбы которых трагичны. Нельзя сказать, чтобы глуповцы не сочувствовали своим заступникам. Но и в самом сочувствии сквозит у них та же самая политическая наивность: "Небось, Евсеич, небось! - провожают они в острог правдолюбца,- с правдой тебе везде жить будет хорошо!" "С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только "старатели" русской земли". Когда по выходе в свет "Истории одного города" критик А. С. Суворин стал упрекать сатирика в глумлении над народом, в высокомерном отношении к нему, Щедрин отвечал: "Рецензент мой не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не может быть и речи... Что же касается "народа" в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности". Заметим, что картины народной жизни все же освещаются у Щедрина в иной тональности, чем картины градоначальнического самоуправства. Смех сатирика здесь становится горьким, презрение сменяется тайным сочувствием. Опираясь на "почву народную", Щедрин строго соблюдает границы той сатиры, которую сам народ создавал на себя, широко использует фольклор. "История одного города" завершается символической картиной гибели Угрюм-Бурчеева. Она наступает в момент, когда в глуповцах заговорило чувство стыда и стало пробуждаться что-то похожее на гражданское самосознание. Однако картина бунта вызывает двойственное впечатление. Это не грозовая, освежающая стихия, а "полное гнева оно", несущееся с Севера и издающее "глухие, каркающие звуки". Как все губящий, все сметающий смерч, страшное "оно" повергает в ужас и трепет самих глуповцев, падающих ниц. Это "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", а не сознательный революционный переворот.
Такой финал убеждает, что Салтыков-Щедрин чувствовал отрицательные моменты стихийного революционного движения в крестьянской стране и предостерегал от его разруши-(*14)тельных последствий. Угрюм-Бурчеев исчезает в воздухе, не договорив известной читателю фразы: "Придет некто за мной, который будет еще ужаснее меня". Этот "некто", судя по "Описи градоначальников",- Перехват-Залихватский, который въехал в Глупов победителем ("на белом коне"!), сжег гимназию и упразднил науки! Сатирик намекает на то, что стихийное возмущение может повлечь за собой еще более реакционный и деспотический режим, способный уже остановить само "течение истории". Тем не менее книга Щедрина в глубине своей оптимистична. Ход истории можно прекратить лишь на время: об этом свидетельствует символический эпизод обуздания реки Угрюм-Бурчеевым. Кажется, что правящему идиоту удалось унять реку, но ее поток, покрутившись на месте, все-таки восторжествовал: "остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах". Смысл этой сцены очевиден: рано или поздно живая жизнь пробьет себе дорогу и сметет с лица русской земли деспотические режимы угрюм-бурчеевых и перехват-залихватских. Благодаря своей жестокости и беспощадности, сатирический смех Щедрина в "Истории одного города" имеет великий очистительный смысл. Надолго опережая свое время, сатирик обнажал полную несостоятельность существовавшего в России полицейско-бюрократического режима. Незадолго до первой русской революции другой писатель, Лев Толстой, говоря о современной ему общественной системе, заявлял: "Я умру, может быть, пока она не будет еще разрушена, но она будет разрушена, потому что она уже разрушена на главную половину в сознании людей".
"Общественный" роман "Господа Головлевы"
В конце 60-х - начале 70-х годов Салтыков-Щедрин в ряде своих критических работ утверждал необходимость появления в русской литературе нового "общественного" романа. Он считал, что старый любовный, семейный роман исчерпал себя. В современном обществе подлинно драматические конфликты все чаще и чаще обнаруживаются не в любовной сфере, а в "борьбе за существование", в "борьбе за неудовлетворенное самолюбие", "за оскорбленное и униженное человечество". Эти новые, более широкие общественные вопросы настойчиво стучатся в двери литературы. "Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте - везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма началась среди уютной обстановки семейства, а кончилась... (*15) получением прекрасного места, Сибирью и т. п.". По мнению Салтыкова-Щедрина, "разработывать по-прежнему помещичьи любовные дела сделалось немыслимым, да и читатель стал уже не тот. Он требует, чтоб ему подали земского деятеля, нигилиста, мирового судью, а пожалуй, даже и губернатора". Если в старом романе на первом плане стояли вопросы "психологические", то в новом - "вопросы общественные". К "общественному" роману Салтыков-Щедрин вплотную подошел в "Господах Головлевых" (1880). В распаде буржуазной семьи писатель одновременно с Толстым и Достоевским увидел верные признаки тяжелой социальной болезни, охватившей русское общество. Головлевы, равно как и Карамазовы у Достоевского, далеко не похожи на патриархальных дворян типа Ростовых или Болконских в толстовской "Войне и мире". Это люди с иной, буржуазно-потребительской психологией, которая торжествует во всех их мыслях и поступках. Теме дворянского оскудения Щедрин придает новый, неожиданный поворот. Его современники сосредоточивали внимание на экономическом оскудении дворянских гнезд. В "Господах Головлевых" акцент на другом: они легко приспособились к пореформенным буржуазным порядкам и не только не разоряются, а стремительно богатеют. Но по мере их материального преуспеяния в собственнической душе совершается страшный процесс внутреннего опустошения, который и интересует Щедрина. Шаг за шагом прослеживает он этапы духовной деградации всех своих героев и в первую очередь - Порфирия Головлева, судьба которого находится в центре романа.
Благонамеренная речистость свойственна Порфирию Головлеву с детских лет. Это "медоточивое" умение приласкаться к "милому другу маменьке" с помощью липких, как паутина, елейных слов. Ими герой, прозванный Иудушкой, прикрывает свои эгоистические цели. Щедрин исследует в романе истоки пустословия Иудушки, различные его формы и внутреннюю эволюцию. Язык, призванный быть средством общения, у Иудушки используется как средство обмана и одурачивания своих жертв. Вся жизнь его - сплошное надругательство над словом, над духовной природой человека. Уже в детстве в ласковых словах Иудушки Арина Петровна чувствовала что-то зловещее: говорит он ласково, а взглядом словно петлю накидывает. И действительно, елейные речи героя не бескорыстны: внутренний их источник - стремление к личной выгоде, желание урвать у маменьки самый лакомый кусок. (*16) По мере того как богатеет Иудушка, изменяется и его пустословие. Из медоточивого в детстве и юности оно превращается в тиранствующее. Подобно злому пауку, Иудушка в главе "По-родственному" испытывает наслаждение при виде того, как в паутине его липких слов задыхается и отдает Богу душу очередная жертва - больной брат Павел.
Но вот герой добивается того, к чему стремился. Он становится единственным и безраздельным хозяином головлевских богатств. Теперь его пустословие из тиранствующего превращается в охранительное. Привычными словоизвержениями герой отгораживает себя от жизни, отговаривается от "посягательств" родного сына Петра. Истерическая мольба сына о помощи и спасении глушится и отталкивается отцовским пустословием.
Наступает момент, когда никакое, даже самое действительное горе не в состоянии пробить брешь в нещадном Иудушкином словоблудии. "Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир в его глазах есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия". Охранительная болтовня постепенно вырождается в празднословие. Иудушка настолько привык лгать, ложь так срослась с его душой, что пустое слово берет в плен всего героя, делает его своим рабом. Он занимается празднословием без всякой цели, любой пустяк становится поводом для нудной словесной шелухи. Подадут, например, к чаю хлеб, Иудушка начинает распространяться, "что хлеб бывает разный: видимый, который мы едим и через это тело свое -поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы вкушаем и тем стяжаем себе душу...". Празднословие отталкивает от Иудушки последних близких ему людей, он остается один, и на этом этапе существования его празднословие переходит в пустомыслие. Иудушка запирается в своем кабинете и тиранит воображаемые жертвы, отнимает последние куски у обездоленных мужиков. Но теперь это не более чем пустая игра развращенной, умирающей, истлевающей в прах души. Запой пустомыслия окончательно разлагает его личность. Человек становится фальшивкой, рабом обмана. Как паук, он запутывается в собственной липкой паутине слов. Надругательство Иудушки над словом оборачивается теперь надругательством слова над душой Иудушки.
Наступает последний этап - предел падения: запой праздномыслия сменяется алкоголем. Казалось бы, на этом уже чисто физическом разложении героя Щедрин и должен был поставить точку. Но он ее не поставил. Писатель верил, (*17) что именно на последней ступени падения жизнь мстит человеку за содеянное, и не сам по себе умирает такой разложившийся субъект - совесть просыпается в нем, но лишь для того, чтобы своим огненным мечом убить его. На исходе Страстной недели, во время слушания в церкви "Двенадцати евангелий" вдруг что-то прорывается в душе Иудушки. До него неожиданно доходит истинный смысл высоких божественных слов. "Наконец, он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирыч некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он крадучись добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь. На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирыч шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата.
На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина".
"Сказки"
Над книгой "Сказок" Салтыков-Щедрин работал с 1882 по 1886 год. Эту книгу считают итоговым произведением писателя: в нее вошли все основные сатирические темы его творчества. Обращение сатирика к сказочному жанру обусловлено многими причинами. К 80-м годам сатира Щедрина принимает все более обобщенный характер, стремится взлететь над злобой дня к предельно широким и емким художественным обобщениям. Поскольку общественное зло в эпоху 80-х годов измельчало, проникло во все поры жизни, растворяясь в повседневности и врастая в быт, потребовалась особая сатирическая форма, преодолевающая будни жизни, мелочи повседневного существования. Сказка помогала Щедрину укрупнить масштаб художественного изображения, придать сатире вселенский размах, увидеть за русской жизнью жизнь всего человечества, за русским миром - мир в его общечеловеческих пределах. И достигалась эта "всемирность" путем врастания в "народную почву", которую писатель считал "единственно плодотворной" для сатиры.
Нельзя не заметить, что в основе щедринских фантастики и гротеска лежит народный юмористический взгляд на жизнь, (*18) что многие фантастические его образы являются развернутыми фольклорными метафорами. И "органчик" у Брудастого, и "фаршированная голова" у Прыща в "Истории одного города" восходят к распространенным народным пословицам, поговоркам: "На тулово без головы шапки не пригонишь", "Тяжело голове без плеч, худо телу без головы", "У него голова трухой набита", "Потерять голову", "Хоть на голове-то густо, да в голове пусто". Богатые сатирическим смыслом народные присловья без всякой переделки попадают в описания Салтыковым-Щедриным глуповских бунтов и междоусобиц. Часто обращается сатирик и к народной сказочной фантастике, пока на закате своей жизни не находит в ней лаконичную форму для своих сатирических обобщений.
В основе сатирической фантазии итоговой книги Щедрина лежат народные сказки о животных. Писатель использует готовое, отточенное вековой народной мудростью содержание, освобождающее сатирика от необходимости развернутых мотивировок и характеристик. В сказках каждое животное наделено устойчивыми качествами характера: волк жаден и жесток, лиса коварна и хитра, заяц труслив, щука хищна и прожорлива, осел беспросветно туп, а медведь глуповат и неуклюж. Это на руку сатире, которая по природе своей чуждается подробностей, изображает жизнь в наиболее резких ее проявлениях, преувеличенных и укрупненных. Поэтому сказочный тип мышления органически соответствует самой сути сатирической типизации. Не случайно среди народных сказок о животных встречаются сатирические сказки: "О Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове" - яркая народная сатира на суд и судопроизводство, "О щуке зубастой" - сказка, предвосхищающая мотивы "Премудрого пискаря" и "Карася-идеалиста".
Заимствуя у народа готовые сказочные сюжеты и образы, Щедрин развивает заложенное в них сатирическое содержание. А фантастическая форма является для него надежным способом "эзоповского" языка, в то же время понятного и доступного самым широким, демократическим слоям русского общества. С появлением сказок существенно изменяется сам адресат щедринской сатиры, писатель обращается теперь к народу. Не случайно революционная интеллигенция 80-90-х годов использовала щедринские сказки для пропаганды среди народа. Условно все сказки Салтыкова-Щедрина можно разделить на четыре группы: сатира на правительственные круги и господствующее сословие; сатира на либеральную интеллигенцию; сказки о народе; сказки, обличающие эгоистическую (*19) мораль и утверждающие социалистические нравственные идеалы. К первой группе сказок можно отнести: "Медведь на воеводстве", "Орел-меценат", "Богатырь", "Дикий помещик" и "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил". В сказке "Медведь на воеводстве" развертывается беспощадная критика самодержавия в любых его формах. Рассказывается о царствовании в лесу трех воевод-медведей, разных по характеру: злого сменяет ретивый, а ретивого - добрый. Но эти перемены никак не отражаются на общем состоянии лесной жизни. Не случайно про Топтыгина первого в сказке говорится: "он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина". Зло заключается не в частных злоупотреблениях отдельных воевод, а в звериной, медвежьей природе власти. Оно и совершается с каким-то наивным звериным простодушием: "Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец, забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавши это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения". В сказке "Орел-меценат" Щедрин показывает враждебность деспотической власти просвещению, а в "Богатыре" история российского самодержавия изображается в
Михаил Салтыков-Щедрин. Его жизнь и литературная деятельность Кривенко С Н
ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Первые детские воспоминания Салтыкова. – “Нежное” воспитание. Отсутствие родительской ласки. – Недостаток общения с природой. – Влияние Евангелия на детскую душу Салтыкова. – Живописец Павел и первые учителя. – Московский дворянский институт. – Лицей. – Преследование за чтение книг и сочинение стихов. – Лицейские “продолжатели Пушкина”. – Несколько юношеских стихотворений Салтыкова. – Нелюдимость лицеиста. – Увлечение Францией
Близость смерти не позволяет обыкновенно видеть настоящей величины заслуг человека, и в то время, как заслуги одних преувеличиваются, заслуги других представляются несомненно в преуменьшенном виде, хотя бы в наличности их никто не сомневался и даже враги воздавали им молчаливо известную дань уважения. Последнее относится и к Михаилу Евграфовичу Салтыкову.
Мало на Руси имен, которые говорили бы так много уму и сердцу, как его имя; мало писателей, которые имели при жизни такое влияние и оставили обществу такое обширное литературное наследство, наследство богатое и разнообразное как в отношении внутреннего содержания, так и со стороны внешней формы и совсем особого языка, который при жизни еще начал называться “салтыковским”. Примыкая по роду творчества непосредственно к Гоголю, он нисколько не уступает ему ни в оригинальности, ни в силе дарования. Мало, наконец, людей, которые отличались бы таким цельным характером и прошли бы с такою честью жизненное поприще, как он.
Родился Михаил Евграфович 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его – отец, коллежский советник, Евграф Васильевич, и мать, Ольга Михайловна, урожденная Забелина, купеческого рода, – были довольно богатые местные помещики; крестили же его тетка Марья Васильевна Салтыкова и угличский мещанин Дмитрий Михайлович Курбатов. Последний попал восприемником в дворянский дом по довольно исключительному предшествовавшему обстоятельству, о котором Салтыков рассказывает в шутливом тоне и лично, и потом в “Пошехонской старине”, где Курбатов выведен под фамилией Бархатова. Этот Курбатов славился своею набожностью и прозорливостью и, ходя постоянно на богомолье по монастырям, заходил по пути и гостил довольно подолгу у Салтыковых. Случилось ему таким же образом зайти к ним и в 1826 году, незадолго перед тем, как родиться Михаилу Евграфовичу. На вопрос Ольги Михайловны, кто у нее родится – сын или дочь, он отвечал: “Петушок, петушок, востер ноготок! Многих супостатов покорит и будет женским разгонником”. Когда родился действительно сын, то его и назвали Михаилом, в честь Михаила-архангела, а Курбатова пригласили в крестные отцы.
Воспитание помещичьих детей велось в ту пору по довольно распространенному шаблону, носило какой-то сокращенный, точно заводской, характер и не изобиловало родительским вниманием: детей растили и воспитывали обыкновенно на особой половине сначала кормилицы, а потом няньки и гувернантки или дядьки и гувернеры, потом учили их лет до десяти приходские священники и какие-нибудь “домашние учителя”, нередко из своих же крепостных, а затем их сбывали в учебные заведения, преимущественно в казенные, или в какие-нибудь приготовительные пансионы. Воспитание это и вообще-то нельзя назвать рациональным, а салтыковское тем более из-за суровости домашнего режима и той довольно исключительной семейной обстановки, какая создалась на почве крепостного права, и подчинения бесхарактерного отца практичною, деловитою матерью, которая больше всего думала о хозяйстве. Много видел маленький Салтыков и крепостной, и семейной неправды, оскорблявшей человеческое достоинство и угнетавшей впечатлительную детскую душу; но даровитая натура его не сломилась, а напротив, точно закалялась в испытании и собиралась с силами, чтобы впоследствии широко расправить крылья над человеческою неправдою вообще. Однажды мы заговорили с ним о памяти, – с какого возраста человек начинает помнить себя и окружающее, – и он мне сказал: “А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню; но секут как следует, розгою, а немка – гувернантка старших моих братьев и сестер – заступается за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком еще мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше”. Вообще, детство Салтыкова не изобилует светлыми впечатлениями.
“Пошехонская старина”, имеющая, несомненно, автобиографическое значение, переполнена самыми грустными красками и дает если не буквально точную, то во всяком случае довольно близкую картину его домашнего воспитания в период до десятилетнего возраста. Михаилу Евграфовичу пришлось расти и учиться отдельно от старших братьев, которые были в то время уже в учебных заведениях, но все-таки он помнил и их детство и испытал на себе, хотя и в меньшей степени, тот же воспитательный уклад, в котором телесные наказания в разных видах и формах являлись главным педагогическим приемом. Детей ставили на колени, рвали за вихры и за уши, секли, а чаще всего кормили подзатыльниками и колотушками как способом более сподручным.
“Припоминается беспрерывный детский плач, неумолкаемые детские стоны за классным столом, – заставляет он говорить своего Затрапезного, – припоминается целая свита гувернантов, следовавших одна за другой и с непонятною для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево… Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками”.
Родители оставались ко всему этому равнодушны, а мать обыкновенно даже усиливала наказание. Она являлась высшей карательной инстанцией. Салтыков не любил вспоминать своего детства, а когда вспоминал какие-нибудь отдельные его черты, то вспоминал всегда с большой горечью. Никого лично он при этом не винил, а говорил, что тогда весь строй, весь порядок жизни и отношений был таким. Ни сами каравшие и расточавшие кары не сознавали себя жестокими, ни посторонние так не смотрели на них; тогда просто говорилось: “С детьми без этого нельзя”, и в этом-то и был весь ужас, гораздо больший личных ужасов, потому что он-то и делал их возможными и давал им права гражданства. Внешней обстановкою детства, в смысле гигиены, опрятности и питания, также нельзя было похвалиться. Хотя в доме было достаточно больших и светлых комнат, но это были комнаты парадные, дети же постоянно теснились днем в небольшой классной комнате, а ночью в общей детской, тоже маленькой и с низеньким потолком, где стояло несколько детских кроваток, а на полу, на войлоках, спали няньки. Летом дети еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием свежего воздуха, но зимой их положительно закупоривали в четырех стенах и ни единой струи свежего воздуха не доходило до них, потому что форточек в доме не водилось, и комнатная атмосфера освежалась только топкою печей. Одно только знали – топить пожарче и хорошенько закутывать. Это называлось нежным воспитанием. Очень возможно, что вследствие именно таких гигиенических условий Салтыков и оказался впоследствии таким хилым и болезненным. Опрятность также плохо соблюдалась: детские комнаты нередко оставались неметенными; одежда на детях была плохая, чаще всего перешитая из чего-нибудь старого или переходившая от старших к младшим. Прибавьте к этому еще прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную рвань. То же можно сказать и о питании: оно было очень скудным. В этом отношении помещичьи семьи делились на две категории: в одних еда возводилась в какой-то культ, ели целый день, проедали целые состояния и детей тоже пичкали, перекармливали и делали обжорами; в других, наоборот, господствовала не то что бы скупость, а какое-то непонятное скопидомство: всегда казалось мало, и всего было жаль. Сараи, ледники, подвалы и кладовые ломились от провизии, готовилось много кушаний, но не для себя, а для гостей; себе же на стол подавались остатки и то, что начинало уже портиться и залеживалось; на скотном дворе стояло по ста и более коров, а к чаю подавалось снятое, синее молоко, и т. п.
Такого рода порядок, да еще в усиленной степени, был и в семье Салтыковых. Но нравственно-педагогические условия воспитания были еще ниже физических. Между отцом и матерью происходили постоянные ссоры. Подчинившись матери и сознавая свою приниженность, отец отплачивал за это тем, что при всяком случае осыпал ее бессильной руганью, упреками и укоризнами. Дети были невольными свидетелями этой брани, ничего в ней не понимали, а видели только, что сила на стороне матери, но что она чем-то кровно обидела отца, хотя обыкновенно и выслушивает молча его брань, и чувствовали поэтому к ней безотчетный страх, а к нему как к человеку бесхарактерному и не могшему защитить не только их, но и себя, полное безучастие. Салтыков говорил, что ни отец, ни мать не занимались ими, что росли они, как посторонние, и что он, по крайней мере, совсем не знал того, что называется родительскою ласкою. Любимчиков еще своеобразно ласкали, остальных – нет. Само это разделение детей на любимых и нелюбимых должно было портить первых и глубоко оскорблять вторых. Затем, если несправедливые и суровые наказания действовали ожесточающим образом на детей, то поступки и разговоры, при них происходившие, распахивали перед ними всю изнанку жизни; а старшие, к сожалению, даже на короткое время не считали нужным сдерживаться и без малейшего стеснения выворачивали и крепостную, и всякую иную тину.
Не раз Салтыков жаловался на отсутствие в детстве общения с природой, на отсутствие непосредственной и живой связи с ее привольем, с ее теплом и светом, оказывающими такое благотворное влияние на человека, которое наполняет все его существо и проходит потом через всю его жизнь. И вот что мы читаем в “Пошехонской старине” от лица Затрапезного: “…с природою мы знакомились случайно и урывками – только во время переездов на долгих в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно”. Ни о какой охоте никто и понятия не имел; изредка собирали грибы и ловили карасей в пруду, но “ловля эта имела характер чисто хозяйственный и с природой не имела ничего общего”; затем, ни зверей, ни птиц в живом виде в доме не водилось, так что и зверей, и птиц “мы знали только в соленом, вареном и жареном виде”. Сказалось это и на его произведениях: описания природы у него редко встречаются, и он далеко не такой мастер на подобные описания, как, например, Тургенев, Лермонтов, Аксаков и другие. Впрочем, не особенно много радостей могла дать ребенку и северная природа – природа бедная и угрюмая, производившая, в свою очередь, удручающее впечатление не какою-нибудь величественною суровостью, а именно бедностью, неприветливостью и сереньким колоритом. Местность, где родился Салтыков и где протекло его детство, даже в захолустной стороне было захолустьем. Это была равнина, покрытая хвойным лесом и болотами, тянувшимися без перерыва на многие десятки верст. Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые сильные летние жары, а текучей воды было мало. Небольшие речушки еле текли среди топких болот, то образуя стоячие бочаги, то совсем теряясь под густою пеленой водяных зарослей. Летом воздух был насыщен испарениями и наполнен тучами насекомых, которые не давали покоя ни людям, ни животным.
В детстве Салтыкова было два обстоятельства, благоприятствовавших его развитию и сохранению в нем той искры Божией, которая потом так ярко горела. Одно из этих обстоятельств, в сущности, отрицательного свойства – то, что он рос отдельно и что за ним некоторое время было меньше надзора, – дало, однако, положительный результат: он больше думал, сосредоточивался мыслью на себе и окружающем и стал самостоятельно читать и заниматься, приучаясь к самодеятельности и самостоятельности, к тому, чтобы полагаться на себя и верить в свои силы. Читать было почти нечего, так как в доме почти не было книг, а потому он читал оставшиеся от старших братьев учебники. Среди них особенное впечатление произвело на него Евангелие. Это-то вот и было вторым обстоятельством, оказавшим на него самое решительное влияние. Вспоминал он о нем потом как о животворном луче, внезапно ворвавшемся в его жизнь и осветившем и собственное его существование, и окружавший его мрак. Познакомился он с Евангелием не схоластически, а воспринял его непосредственно детскою душою. Ему было тогда восемь-девять лет. Мы не сомневаемся, что в лице Затрапезного он вспоминает именно о своем знакомстве с “Чтением из четырех евангелистов”. Вот эти чудные строки:
“Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружающей меня среде… начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков… И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ… Я даже с уверенностью могу утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания. В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мною из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года”.
Не могу удержаться, чтобы не привести еще следующего замечательного по глубине чувства места, которое говорит о росте сочувствия и тяготения Салтыкова к народу, – процесс, показывающий понимание народного настроения и близкую, органическую связь этого настроения с его собственным душевным состоянием:
“Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть доступна не только начетчикам и богословам, но и людям, не имеющим ясного понятия о значении слова “религия”. Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолюдин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм вместо формулированной молитвы только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и вздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу и просветляет его существо. Под наитием ее он искренно и горячо верит. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, что есть в мире Правда и что в недрах ее кроется Чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца; пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело… Он верит, что злосчастие его не бессрочно и что наступит минута, когда Правда осияет его наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да! Колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма! Ежели не жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия храма, в котором он молится, находится сельское кладбище, где сложили кости его отцы. И они молились тою же бессловною молитвой, и они верили в то же чудо. И чудо свершилось: пришла смерть и возвестила им свободу. В свою очередь она придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и свободному даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу свободным отцам…”
В другом месте, от лица того же Затрапезного, Салтыков говорит еще определеннее:
“Крепостное право сближало меня с подневольной массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни, и что только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному сознательному и страстному отрицанию его”.
Вообще, “Пошехонская старина” представляет большой интерес по отношению к автору, потому что бросает свет не только на детскую, но и на всю последующую его жизнь. Хотя он там и появляется только эпизодически, на фоне общей бытовой картины, хотя мы и не можем следить за ним день за днем, но все-таки видно, как, под какими влияниями и из каких элементов слагался его характер, его умственный и нравственный облик. Повторяем: нельзя, разумеется, утверждать, что все именно так и было, как там рассказано, но многое из того, что Салтыков лично рассказывал при жизни, воспроизведено им с буквальной точностью, даже некоторые имена сохранены (например, принимавшей его повивальной бабки, калязинской мещанки Ульяны Ивановны, первого его учителя Павла и т. п.) или только отчасти изменены.
Первым его учителем был свой же крепостной человек, живописец Павел, которому в самый день рождения Михаила Евграфовича 15 января 1833 года, то есть когда ему исполнилось семь лет, приказано было приступить к обучению его грамоте, что он и сделал, придя в класс с указкою и начав с азбуки. Тут есть некоторая неточность: рассказывая о первом уроке Павла Затрапезному, он говорит, что до этого он ни читать, ни писать – ни по-каковски, даже по-русски, не умел, а выучился только возле старeших братьев и сестер болтать по-французски и по-немецки да заучивать по настоянию гувернанток и говорить в дни именин и рождений родителей поздравительные стихи; между тем приведенное в 5-й главе “Пошехонской старины” французское стихотворение оказалось среди бумаг Салтыкова и было написано детским почерком и подписано так: “?crit par votre tr?s humble fils Michel Saltykoff. Le 16 octobre 1832”. Мальчику тогда не было еще и семи лет, следовательно, можно сделать одно из двух предположений: или что он читал и писал по-французски раньше, чем по-русски, или что стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей. Но это – незначительная неточность, на которой не стоит и останавливаться.
В 1834 году вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра Михаила Евграфовича Салтыкова, Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение его было вверено ей и ее товарке по институту Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Им помогали священник села Заозерья, о. Иван Васильевич, обучавший Салтыкова латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии Матвей Петрович Салмин, которого приглашали два года кряду на летние вакации. Занимался Салтыков усердно и настолько хорошо, что в августе 1836 года был принят в третий класс шестиклассного в то время Московского дворянского института, только что преобразованного из университетского пансиона. Однако в третьем классе ему пришлось пробыть два года; но это не вследствие дурных успехов, а исключительно по малолетству. Учился он по-прежнему хорошо и в 1838 году был переведен в качестве отличнейшего ученика в лицей. Московский дворянский институт пользовался преимуществом отправлять в лицей каждые полтора года двух лучших учеников, куда они поступали на казенное содержание, и одним из таких и был Салтыков.
В лицее, уже в первом классе, он почувствовал влечение к литературе и стал писать стихи. За это, а также и за чтение книг он терпел всевозможные преследования как со стороны гувернеров и лицейского начальства, так и в особенности со стороны учителя русского языка Гроздова. Таланта его, очевидно, не признавали. Он вынужден был прятать стихи, особенно если содержание их могло показаться предосудительным, в рукава куртки и даже в сапоги, но контрабанда отыскивалась, и это оказывало сильное влияние на отметки по поведению: в течение всего времени пребывания в лицее он почти не получал, при 12-балльной системе, свыше 9 баллов до самых последних месяцев перед выпуском, когда обыкновенно всем ставился полный балл. Поэтому в выданном ему аттестате значится: “при довольно хорошем поведении”, а это значит, что средний балл по поведению за последние два года был ниже восьми. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились “грубости”, то есть расстегнутая пуговица на куртке или мундире, ношение треуголки с “поля”, а не по форме (что было необыкновенно трудно и составляло само по себе целую науку), курение табака и иные школьные преступления.
Начиная со 2-го класса в лицее позволялось воспитанникам выписывать за свой счет журналы. Таким образом, Салтыковым получались: “Отечественные записки”, “Библиотека для чтения” (Сенковского), “Сын Отечества” (Полевого), “Маяк” (Бурачка) и “Revue Etrang?re”. Журналы читались воспитанниками с жадностью; особенно сильным было влияние “Отечественных записок”, где писал критические статьи Белинский. Вообще, влияние литературы было тогда очень сильно в лицее: воспоминание о недавно погибшем Пушкине как будто обязывало нести его знамя и на каждом курсе предполагался его продолжатель. Такими продолжателями считались В. Р. Зотов, Н. П. Семенов (сенатор), Л. А. Мей, В. П. Гаевский и другие, в том числе и Салтыков. Первое стихотворение его “Лира” было напечатано в “Библиотеке для чтения” 1841 года за подписью С-в. В 1842 году появилось там же другое его стихотворение “Две жизни” за подписью С. Затем произведения его появляются в “Современнике” (Плетнева): в 1844 году– “Наш век”, “Весна” и два перевода, из Гейне и Байрона; в 1845 году – “Зимняя элегия”, “Вечер” и “Музыка”. Под всеми этими стихотворениями подпись: М. Салтыков. Он в это время уже вышел из лицея, но стихи эти были написаны еще там. Больше в стихотворной форме он, по-видимому, ничего не писал, по крайней мере, не печатал, а отдавал в печать только то, что уже было в портфеле, и отдавал не в порядке написания, а как случится: позже написанные вещи – раньше, а ранние – позже. Мы приведем некоторые из этих стихотворений как для того, чтобы показать, как Салтыков писал стихи, так и для того, чтобы видеть отражавшееся в них душевное настроение юноши – будущего выдающегося писателя.
(Из Гейне. 1841)
О, милая девочка! быстро
Челнок свой направь ты ко мне!
Сядь рядом со мною, и тихо
Беседовать будем во тьме.
И к сердцу страдальца ты крепко
Головку младую прижми -
Ведь морю себя ты вверяешь
И в бурю, и в ясные дни.
А сердце мое – то же море -
Бушует оно и кипит,
И много сокровищ бесценных
На дне своем ясном хранит.
Музыка (1843)
Я помню вечер: ты играла,
Я звукам с ужасом внимал,
Луна кровавая мерцала -
И мрачен был старинный зал.
Твой мертвый лик, твои страданья,
Могильный блеск твоих очей
И уст холодное дыханье,
И трепетание грудей -
Все мрачный холод навевало.
Играла ты… я весь дрожал,
А эхо звуки повторяло,
И страшен был старинный зал…
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнит душу мне тоской;
Моя любовь живет страданьем
И страшен ей покой!
Наш век (1844)
В наш странный век все грустью поражает.
Немудрено: привыкли мы встречать
Работой каждый день; все налагает
Нам на душу особую печать,
Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем -
Куда, к чему? Не знаем мы о том.
Вся наша жизнь есть смутный род сомненья.
Мы в тяжкий сон живем погружены.
Как скучно все: младенческие грезы
Какой-то тайной грустию полны,
И шутка как-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслед за жизнью веет
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый ум безвременно коснеет,
И чувство в нем молчит, усыплено.
Что ж в жизни есть веселого? Невольно
Немая скорбь на душу набежит
И тень сомненья сердце омрачит…
Нет, право, жить и грустно, да и больно!..
Меланхолическое настроение автора, грусть и вопросы, зачем жизнь идет так печально и что этому причиной, – слышатся определенно и звучат искренностью и глубиною. Тогдашняя жизнь действительно мало представляла отрадного и изобиловала тяжелыми картинами бесправия и произвола. Для этого не надо было долго жить и далеко ходить, а достаточно было видеть одно крепостное право. Но вы чувствуете, что настроение это не отдает разочарованием, которое заставляет складывать руки, не похоже также и на бесплодную меланхолию, а, напротив, в нем слышится уже нота действенной любви (“моя любовь живет страданьем и страшен ей покой!”), которая потом все ярче и ярче разгоралась и не потухала до самых последних его дней. Стихи писать он скоро перестал, – потому ли, что они ему не давались, или что самая форма не соответствовала складу его ума, – но настроение осталось, и мысль продолжала работать в том же направлении.
“Еще в стенах лицея, – говорит г-н Скабичевский, – Салтыков оставил свои мечты сделаться вторым Пушкиным. Впоследствии он даже не любил, когда кто-либо напоминал ему о стихотворных грехах его молодости, краснея, хмурясь при этом случае и стараясь всячески замять разговор. Однажды он высказал даже о поэтах парадокс, что все они, по его мнению, сумасшедшие люди. “Помилуйте, – объяснял он, – разве это не сумасшествие, по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать, во что бы то ни стало, в размеренные рифмованные строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая”. “Конечно, – добавляет г-н Скабичевский, – это была не больше как одна из сатирических гипербол великого юмориста, потому что на самом деле он был тонкий знаток и ценитель хороших стихов, и Некрасов постоянно ему одному из первых читал свои новые стихотворения”.
Ко времени, о котором мы говорим, относятся несколько строк А. Я. Головачевой о Салтыкове-лицеисте в ее литературных “Воспоминаниях”: “…я видела его в начале сороковых годов в доме М. Я. Языкова. Он и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей, и оттуда внимательно слушал разговоры”. Улыбка “мрачного лицеиста” считалась чудом. По словам Языкова, Салтыков ходил к нему, “чтобы посмотреть на литераторов”. Мысль сделаться и самому литератором, очевидно, глубоко засела в нем. Кроме того, как мы уже сказали, в лицее того времени интересовались литературой и много читали, чтение само собой вызывало вопросы, которые волновали и мучили, требовали ответов и порождали естественное желание слышать живое слово умных людей. Кроме выписывавшихся периодических изданий, в лицее читали и многое другое. К. К. Арсеньев говорит в “Материалах для биографии М. Е. Салтыкова”, что “даже в конце сороковых, в начале пятидесятых годов, после грозы 1848 года, после дела петрашевцев, в котором не случайно оказались замешанными многие из бывших лицеистов (Петрашевский, Спешнев, Кашкин, Европеус), между воспитанниками лицея бродили еще идеи, вдохновлявшие юношу Салтыкова”.
Вышел Салтыков из лицея по первому разряду. В то время, как и теперь, из лицея выпускали окончивших курс с чином IX, X и XII классов, смотря по успехам в науках и “поведении”. Так как Салтыков получал плохие баллы за поведение и по предметам особенно не старался, то и вышел с чином X класса, семнадцатым по списку. Из 22 учеников выпуска 1844 года 12 человек были выпущены IX классом, 5-X и 5-XII. К средней группе и принадлежал наш лицеист. Любопытно, что с чином X же класса вышли из лицея и Пушкин, и Дельвиг, и Мей. Из товарищей Салтыкова по лицею, бывших в одно время с ним как на его, так и на других курсах, никто не составил себе такого крупного литературного имени, как он, хотя многие писали и пробовали писать; в отношении общественной деятельности также нет более выдающегося имени; а по службе многие достигли высоких положений: например, граф А. П. Бобринский, князь Лобанов-Ростовский (посол в Вене) и другие. По окончании курса Салтыков поступил на службу в канцелярию военного министерства при графе Чернышеве.
Он не сохранил о лицее хороших воспоминаний и не любил вспоминать о нем. “Помню я школу, – писал он лет через десять после выпуска в одном из своих очерков, – но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении…” Наоборот, время юности, юношеские надежды и верования, страстное стремление из непроглядной тьмы к свету и правде, товарищи, стремившиеся к тем же идеалам, с которыми он вместе думал и волновался, вспоминаются им не раз и с удовольствием. Сравнивая то, что было в тогдашней дореформенной России, с тем, что было в Европе, молодежь особенно увлекалась Францией.
“С представлением о Франции и Париже, – читаем мы в другом очерке Салтыкова, – для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание. Как известно, в сороковых годах русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Был еще третий лагерь, в котором копошились Булгарины, Брандты, Кукольники и т. п., но этот лагерь уже не имел ни малейшего влияния на подрастающее поколение, и мы знали его лишь настолько, насколько он являл себя прикосновенным к ведомству управы благочиния. Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно примкнул к западникам”.
Рассказывая дальше, что примкнул он, собственно, не к наиболее обширному и единственно авторитетному тогда в литературе кружку западников, который занимался немецкой философией, а к кружку безвестному, инстинктивно прилепившемуся к французским идеалистам, к Франции не официальной, а к той, которая стремилась к лучшему и ставила широкие задачи человечеству, Салтыков говорит: во Франции “все было ясно как день… все как будто только что начиналось. И не только теперь, в эту минуту, а больше полустолетия сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малейшего желания кончиться. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних двух лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались “Историей десятилетия”… Луи-Филипп и Гизо, и Дюшатель, и Тьер, – все это были как бы личные враги, успех которых огорчал, неуспех радовал. Процесс министра Теста, агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо… все это и теперь так живо встает в моей памяти, как будто происходило вчера”. “Франция казалась страною чудес. Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этою неистощимостью жизненного творчества, которое, вдобавок, отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше?”
Если к этому прибавить, что Салтыков был русским человеком в лучшем значении этого слова, крепко был связан всем своим существом с русскою жизнью и горячо любил родную страну и народ, любил их совсем не сентиментальною, а живою и действенною любовью, которая не закрывает глаз на недостатки и темные стороны, а ищет способов к их устранению и путей к счастью, то увидим, что он вступил в жизнь если не вполне готовым человеком, то человеком во всяком случае уже с довольно определенным миросозерцанием и довольно определенным критерием, которым оставалось только развиться дальше и окрепнуть. Любовь Салтыкова к России редко высказывалась в каких-нибудь славословиях, но сказывалась так часто и в стольких произведениях, что я затруднил бы читателя доказательствами и цитатами. Жалуясь на недостаток общения с природой в детстве, описывая скудную северную природу того захолустья, в котором ему суждено было родиться, он и к ней проникается совсем особенною нежностью и любовью. Еще в “Губернских очерках” мы читаем следующее:
“Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость; она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Германию, окружите какою хотите роскошною природою, накиньте на эту природу какое хотите прозрачное и синее небо – я все-таки везде найду милые серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние”.
Из книги Записки лётчика-истребителя автора Архипенко Федор ФедоровичГлава I. Детство и юность Двадцатые годы XX века в России были тяжелыми для ее народа. Только что окончилась первая мировая война, грозно прокатились над землей революции, трудно гасло пламя гражданской войны, там и тут сопротивлялись становлению республики интервенты.С
Из книги Роберт Оуэн. Его жизнь и общественная деятельность автора Каменский Андрей ВасильевичГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Рождение. – Школа. – Даровитый ребенок. – Религиозные увлечения. – Приезд в Лондон. – Ученик в стамфордской лавке. – Его хозяин. – Занятия Оуэна в Стамфорде. – Приказчик в Лондоне. – Тяжелая жизнь. – В оптовом складе Саттерфильда. –
Из книги Иоганн Генрих Песталоцци. Его жизнь и педагогическая деятельность автора Абрамов Яков ВасильевичГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Рождение. – Отец, мать и служанка Бабэль. – Первые годы жизни. – Влияние условий детской жизни на формирование характера. – Дядя и дед. – Горожане и сельчане. – Источник сочувствия к народу. – Начальное обучение. – Колледж. – Стремления
Из книги Николай Пржевальский. Его жизнь и путешествия автораГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Происхождение Пржевальского. – Его родители. – Воспитание. – Окружающая среда. – Вгимназии. – Гимназические порядки. – Увлечение военной службой. – Служба в полку. – Армейская жизнь. – Переход в академию. – Служба в Польше. – Мечты о
Из книги Михаил Салтыков-Щедрин. Его жизнь и литературная деятельность автора Кривенко С НГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Первые детские воспоминания Салтыкова. – “Нежное” воспитание. Отсутствие родительской ласки. – Недостаток общения с природой. – Влияние Евангелия на детскую душу Салтыкова. – Живописец Павел и первые учителя. – Московский дворянский
Из книги Адам Мицкевич. Его жизнь и литературная деятельность автора Мякотин Венедикт АлександровичГлава I. Детство и юность Родители Мицкевича. – Доминиканская школа. – Необыкновенная память мальчика. – Первые стихотворные опыты. – Смерть отца. – Вступление армии Наполеона в Польшу и запавший в душу будущего поэта освободительный энтузиазм. – Виленский
Из книги Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность автора Энгельгардт Михаил АлександровичГлава I. Детство и юность Самообучение – лучшая школа, и уроки такой школы наиболее заслуживают получаемую ими награду. Г. Марш Предки Дарвина. – Роберт Уоринг Дарвин. – Наследственность таланта в семье Дарвинов. – Детство Чарлза Дарвина. – Его любовь к отцу. –
Из книги Джордж Стефенсон. Его жизнь и научно-практическая деятельность автора Абрамов Яков ВасильевичГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Рождение. – Родители. – Раннее детство. – Стефенсон-пастушок. – Первые результаты изобретательности. – Стефенсон-пахарь. – Начало работ в копях. – Стефенсон-кочегар. – Надсмотрщик. – Обучение грамоте. – Отношение к родителям. – Дальнейшие
Из книги Жданов автора Волынец Алексей НиколаевичГлава 2. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Самый младший из семьи Ждановых рос на руках страстно любившей его матери и достаточно пожилой (1849 года рождения) няни Александры Михайловны Беловой, в окружении трёх старших сестёр. По свидетельству одной из них, он был «всеобщим любимцем в семье
Из книги Сумрачный гений III рейха Карл Хаусхофер автора Васильченко Андрей ВячеславовичГЛАВА 1 ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Передать многочисленные тона и оттенки жизни, деятельности и научных идей генерала и профессора Карла Хаусхофера во всем их многообразии не просто сложная, но фактически невыполнимая задача. Жизнь этого человека была настолько бурной и
Из книги И. А. Крылов. Его жизнь и литературная деятельность автора Брилиант Семен МоисеевичГлава I Детство и юность Равнодушие Крылова к его биографам. - Крылов - представитель прошлого века. - Рождение его. - Отец. - Пугачевщина. - Наследственные черты характера. - Находчивость и хладнокровие. - Опасность в детстве. - Лагерная жизнь. - Тверь. - Служба
Из книги Путешествия в Центральной Азии автора Пржевальский Николай МихайловичГлава I. Детство и юность Происхождение Пржевальского. – Его родители. – Воспитание. – Окружающая среда. – В гимназии. – Гимназические порядки. – Увлечение военной службой. – Служба в полку. – Армейская жизнь. – Переход в академию. – Служба в Польше. – Мечты о
Салтыков-Щедрин родился в дворянской семье, в селе Спас-Угол Тверской губернии, рано познакомился с жизнью и бытом деревни, со стремлениями и надеждами крестьян. В произведениях писателя отразились яркие впечатления детства- ужасы крепостной действительности в самом неприглядном и обнажённом виде.
С десяти лет он учился в привилегированном учебном заведении - Московском дворянском институте, а затем в числе лучших учеников был направлен для продолжения образования в Царскосельский лицей, который при Николае 1 превратился в казарменное заведение, готовившее послушных чиновников. Салтыков закончил его в 1844 году, поступил служить в канцелярию военного министерства, стал трудолюбивым и толковым чиновником и быстро продвигался по служебной лестнице. И всё бы было хорошо, и мог бы Салтыков дослужиться до высокого чина, если бы не одно «но»: чиновник писал стихи, а потом начал сочинять повести и рецензии.
Ещё в лицее он подружился с Михаилом Петрашевским и в 1845-1846 годах посещал его петербургский кружок, где молодые демократы изучали труды французских мыслителей- утопистов Сен-Симона и Фурье. (В 1849 году кружок был разгромлен, 20 человек отправлены на каторгу и в солдаты. Среди них - Ф.М. Достоевский.)
Писатель решил выбрать себе псевдоним, вероятно, потому, что неудобным считалось состоять на государственной службе и подписывать художественные произведения своей фамилией. Во-вторых, фамилия Салтыков вызывала в русском ПО обществе определённые ассоциации: помещица Салтыкова Дарья Николаевна (1730-1801), известная под именем Салтычихи, замучила более ста крепостных крестьян, за что была приговорена к смертной казни, которую заменили тюремным заключением. С 1768 года до конца жизни она провела в монастырской тюрьме. Историю Салтычихи хорошо знали в русском обществе, возможно, это побудило Салтыкова выбрать себе псевдоним.
Салтыков выбрал себе псевдоним, подходящий к слову «щедрый», то есть «широко оказывающий помощь, охотно тратящийся на других, не скупой», так как, по словам жены писателя, он в своих произведениях был щедр на всякого рода сарказмы.
В марте 1848 года в журнале «Отечественные записки» публикуется повесть М.Е. Салтыкова-Щедрина «Запутанное дело», пронизанная социалистическими идеями. В марте же из Парижа приходит известие о начавшейся там революции. Царь приказывает начать репрессии против «вольного духа». Салтыкова немедленно арестовывают и ссылают в Вятку, где он и прожил больше семи лет, работая в основном чиновником особых поручений при губернаторе. Писатель основательно изучил жизнь провинции. Все нелепости, уродства и горести провинциального быта прошли перед его глазами. Всё яснее ему представлялось общее состояние России, изнуряемой крепостничеством, произволом, лихоимством. О своих вятских впечатлениях писатель повествует в «Губернских очерках», которые приносят ему всероссийскую известность.
В конце 1855 года, при Александре 1, Салтыкова освобождают. Он переезжает в Петербург и служит в Министерстве внутренних дел, затем назначается вице-губернатором в Рязань, в Тверь, служит в Пензе, Гуле, вновь в Рязани. Благородный вице-губернатор не может справиться с установившимся социальным порядком, с всеобщим взяточничеством и казнокрадством. Он уходит в отставку в чине действительного статского советника (четвёртый класс), что соответствовало по «Табели о рангах» генерал-майору (в военной службе) или губернатору (в гражданской службе).
С 1868 года вся жизнь М.Е. Салтыкова-Щедрина посвящена литературе. Он становится помощником и соредактором
H. A. Некрасова, после запрещения «Современника» издающего «Отечественные записки»; после смерти Некрасова в 1877 году возглавляет журнал и руководит им до 1884 года - до самого запрещения.
Будучи чиновником, он в одиночку пытался бороться против несправедливостей жизни, отстаивая право человека на правду, но его попытки терпели поражение. Тогда он взял в руки копьё сатиры, и ни одна подлость не могла укрыться от его взгляда. Он потрясал своих современников умением вскрывать не только негативные общественно-политические и нравственные явления в жизни общества, но и самые корни этих явлений. Для того чтобы понять причины современного состояния России, М.Е. Салтыков-Щедрин обратился к её истории.
Мамаево нашествие
Ирон. О неожиданном появлении многочисленных и неприятных гостей, посетителей и т. п. Спешно вызывались начальники уездов, получали стремительные внушения и мчались в свои области делать порядок или беспорядок… Что только не делалось в это время… Громы, молнии… Иродово избиение младенцев и Мамаево нашествие
(Куприн. Папаша).
- По имени татарского хана Мамая, совершившего в XIV в. опустошительное нашествие на Русь и разгромленного русскими в Куликовской битве (1380 г.).
Фразеологический словарь русского литературного языка. - М.: Астрель, АСТ . А. И. Фёдоров . 2008 .
Смотреть что такое "Мамаево нашествие" в других словарях:
Мамаево нашествие - неожиданное появление многочисленных и неприятных гостей, посетителей. Мамаево – от имени татарского хана Мамая, который совершил в XIV веке опустошительное нашествие на Русь … Справочник по фразеологии
Мамаево нашествие - Разг. Неожиданное появление многочисленных и неприятных гостей, посетителей. Ф 1, 321; БТС, 518. /i> Выражение языковая реминисценция опустошительного нашествия на Русь татарского хана Мамая в XIV веке. БМС 1998, 399 …
мамаево нашествие - О неожиданном появлении множества неприятных посетителей, гостей и т.п … Словарь многих выражений
НАШЕСТВИЕ - Мамаево нашествие. Разг. Неожиданное появление многочисленных и неприятных гостей, посетителей. Ф 1, 321; БТС, 518. /i> Выражение языковая реминисценция опустошительного нашествия на Русь татарского хана Мамая в XIV веке. БМС 1998, 399.… … Большой словарь русских поговорок
Мамаево побоище - Куликовская битва Монголо татарское иго миниатюра из летописи XVII века Дата … Википедия
Разг. Экспрес. Шумная, крупная драка или ссора; беспорядок в доме. Ну, что тут началось, можете себе представить: друг друга не признают, стрельба, кутерьма мамаево побоище (В. Рудный. Гангутцы). По имени татарского хана Мамая, совершившего в XIV … Фразеологический словарь русского литературного языка
нашествие - я; ср. 1. Вторжение неприятеля в чью л. страну, на чью л. территорию. Н. монголов на Русь. Н. Наполеона. Гитлеровское н. Мамаево н. 2. Разг. Неожиданный приход, появление кого л. в большом количестве. Н. неожиданных гостей. Н. ревизоров, комиссий … Энциклопедический словарь
мамаево побоище - 1) О большой ссоре, драке. 2) О полном беспорядке. По имени татарского хана Мамая, совершившего в 14 в. опустошительное нашествие на Русь и побеждённого русскими под руководством Дмитрия Донского в Куликовской битве в 1380 г … Словарь многих выражений
нашествие - я; ср. 1) Вторжение неприятеля в чью л. страну, на чью л. территорию. Наше/ствие монголов на Русь. Наше/ствие Наполеона. Гитлеровское наше/ствие. Мамаево наше/ствие. 2) разг. Неожиданный приход, появление кого л. в большом количестве. Наше/ствие… … Словарь многих выражений
мама́ев - а, о. ◊ мамаево нашествие шутл. о неожиданном появлении множества неприятных посетителей, гостей и т. п. мамаево побоище шутл. 1) о большой ссоре, драке. [Досужев:] Все лавочники от вас разбегаются, как от чумы; из всякой малости вы заводите… … Малый академический словарь
Сборы русских против Мамая
По мере того, как Московское княжество усиливалось, Орда стала ослабевать, так как в ней нередко происходили смуты и междоусобицы.
Московские князья пользовались этими смутами и стали платить дани меньше, а случалось, что по три года и совсем не платили дани. Ко времени Димитрия Иоанновича в Орде появился грозный воевода Мамай, который всю Орду забрал в свои руки. Послал он рать на Россию, требуя дани как при первых ханах; но Димитрий Иоаннович разбил эту рать наголову. Тогда Мамай пришел в такую ярость, что поднял всю Орду и собирался совсем разорить Русскую землю. «Возьму Русскую землю, - говорил он, - разрушу церкви и обращу русских в свою веру. Где были церкви, там построю мечети; во всех городах посажу своих начальников, а князей русских перебью».
Узнав о замыслах Мамая, Димитрий Иоаннович быстро начал готовиться к отпору. Он разослал гонцов во все стороны и призывал князей и людей русских на защиту веры православной и родной земли. Сбор был назначен в Коломне. Скоро вся северная Русь пришла в движение: ратники тысячами шли к Москве и Коломне. По совету духовенства великий князь отправил было в Орду послов и предлагал уплатить дань, но Мамай был так сердит на русских, что отказался от дани и решил разорить Русскую землю.
Димитрий Донской в обители преподобного Сергия
Пред походом великий князь Димитрий Иоаннович поехал в Троицкую обитель получить от преподобного Сергия благословение на великий подвиг. После обедни преподобный Сергий благословил великого князя и сказал ему:
- Почти дарами и воздай честь нечестивому Мамаю. Видев твое смирение, Господь Бог вознесет тебя, а его неукротимую ярость и гордость низложит.
- Я уже это сделал, отче, - отвечал Димитрий Иоаннович, - но он еще более возносится.
Если так, - молвил преподобный, - то его ждет конечная гибель, а тебе от Господа Бога и Пречистой Богородицы и святых Его будет помощь, и милость, и слава.

В числе монастырской братии великий князь заметил двух иноков, которые отличались высоким ростом и крепким сложением. Их звали Пересвет и Ослябя. До поступления в монастырь эти иноки слыли богатырями и отличались ратными подвигами.
Отче, - сказал великий князь святому Сергию, - дай мне этих иноков от твоего полку иноческого! мне известно, что они были крепкие богатыри и великие ратники.
Преподобный Сергий приказал обоим инокам немедленно приготовиться к ратному делу. Пересвет и Ослябя охотно исполнили приказание и надели оружие. Святой Сергий дал им схимы с нашитыми на них крестами и сказал:
- Мир вам, братья мои возлюбленные о Христе! пострадайте как доблестные воины Христовы; наступило ваше время.
Отпуская великого князя и его спутников, святой Сергий осенил их крестом и окропил святою водою.
Господь будет тебе Помощником, - сказал преподобный. - Он победит и низложит твоих супостатов и прославит тебя.
Пророческие слова святого Сергия обрадовали великого князя и подали ему надежду на успех.
Выступление русской рати в поход
20 августа 1380 года московская рать выступила в поход. Димитрий Иоаннович с князьями и воеводами горячо помолился в соборном Успенском храме, припал здесь ко гробу святого Петра митрополита, первого заступника Москвы, и просил его помощи. Из Успенского собора великий князь перешел в храм Михаила Архангела и там поклонился своим предкам; потом простился с семьею и выехал к войску.

Войско русское бодро пошло вперед. Когда перешли за Оку и приближались к Дону, прибыли разведчики и сказали: «Мамай стоит на Дону, и силы у него столько, что перечесть нельзя». Димитрий Иоаннович собрал князей и воевод на совет. Нужно было решить, переходить ли за Дон, или ожидать татар на этой стороне. Одни говорили: «Лучше оставаться на этой стороне реки. Враг силен; на всякий случай нужно удержать свободный путь позади». Другие говорили: «Лучше переправиться на ту сторону. Нечего думать о возвращении домой; пусть бьется всякий без хитрости и не думает о спасении!» В это время прибыли гонцы от святого Сергия и привезли грамоту. Преподобный благословлял великого князя и обещал ему помощь от Бога и Пресвятой Богородицы. Димитрий Иоаннович еще больше ободрился и велел переправляться через Дон.
Ночь накануне битвы
В ночь с 7 на 8 сентября русская рать перешла через Дон и расположилась близ речки Непрядвы, на поле Куликовом. Несметная татарская рать находилась на другой стороне поля, где возвышалась гора; на горе стоял сам Мамай. Ночь была тихая, звездная; только с одной стороны неба подымалась мгла и предвещала наутро туман. Великая была эта ночь; много потом рассказывали чудного, что совершилось под ее покровом.
Димитрий Иоаннович не мог уснуть в эту ночь: он то молился в своем шатре, то делал разные распоряжения. Не спалось и многим ратным людям и военачальникам. Был у великого князя боярин Боброк, который слыл очень смышленым и опытным воином.

В полночь он приехал к великому князю и вызвался указать приметы о предстоящей битве. Боброк пригласил великого князя с собой. Сели они на коней, выехали на средину Куликова поля и остановились между русскою и татарскою ратью.
Обернувшись лицом к татарскому стану, они стали прислушиваться. Из стана татарского слышались сильные крики, стук, звуки труб; за самым станом выли волки, налево зловеще кричали вороны и клектали орлы; а направо стаи гусей и лебедей плескались в речке, предвещая грозу.
- Что слышал, князь? - спросил Боброк.
- Слышал грозу великую, - отвечал Димитрий Иоаннович.
- Обернись теперь к полкам русским, - сказал Боброк. Великий князь повернул коня и стал прислушиваться. В стане русских было совершенно тихо.
- Ничего не слышу, - сказал великий князь, - только вижу я будто зарево от множества огней.
Благодари Бога, Пречистую Богородицу, великого чудотворца Петра и всех святых, - сказал Боброк, - огни - доброе знамение. Есть у меня еще примета, - продолжал Боброк.
Он сошел с коня и приник правым ухом к земле. Долго слушал Боброк, потом встал и поник головою.
- Ну что, брат, какова примета, - спросил князь.
Долго Боброк не хотел говорить, но наконец прослезился и рассказал князю:
Господин князь! Поведаю тебе только одному, а ты никому не говори. Одна примета тебе на великую радость, а другая на великую скорбь!.. Слышал я, как земля горько, горько плакала: на одной стороне будто женщина кричит татарским голосом о детях своих и бьется, проливая слезы, а на другой стороне будто девица плачет нежным голосом в великой печали. Уповай на милость Божию: ты одолеешь татар, но воинства твоего христианского падет многое множество.
Димитрий Иоаннович прослезился при этих словах и промолвил: «Да будет воля Господня!» Разъехались они по своим шатрам.
Вдруг Димитрию Иоанновичу говорят, что к нему пришли три ратника. Князь велел их пустить. И стал один рассказывать: «Стоял я сторожевым против татарского стана, и было мне виденье: от востока, вижу я, идет словно воинство великое; вдруг на это воинство с полуденной стороны идут два светлых юноши, в доспехах воинских и с мечами; и начали они воинство это рубить и словно восклицали: кто велел вам погублять отечество наше? И кого изрубили, а прочих отогнали». - «А мы, - рассказывал другой, - прилегли было; и вдруг я взглянул на небо и вижу, что в воздухе, со стороны степи, идет словно великое множество черных людей на конях и на колесницах, и вдруг появился словно в святительских ризах муж с огненным жезлом в руке, и тоже словно воскликнул: «Почто пришли вы погублять стадо мое?» и устремился на них с жезлом своим - и всех их разогнал. Я толкнул товарища, он тоже увидал и сказал мне: это никто иной, как угодник Божий святой Петр митрополит».
Выслушав их, великий князь перекрестился и сказал: «Предку моему святому Александру Невскому помогли победить шведскую рать угодники Божий святые Борис и Глеб; не они ли подвиглись и ныне нам на спасение? А святой Петр митрополит неусыпно молится за Русь пред престолом Всевышнего. Помолимся и мы, братья, чтобы помогли они нам в сей великий день».
Куликовская битва
Наступило утро 8 сентября. Горячая утренняя молитва укрепила Дух русских воинов; все стали по своим местам. Густой туман покрывал поле и скрывал войска. Наконец потянул ветерок и рассеял туман; яркое солнце осветило русские полки. Великий князь Димитрий Иоаннович объезжал ряды воинов и говорил: «Возлюбленные отцы и братья, Господа ради и Пречистой Богородицы и своего ради спасения подвизайтесь за веру православную и за братию нашу».

Потом отдал он своего коня и верхнюю одежду одному из бояр, а сам пересел на другого коня и надел простой плащ; вынул он из-за пазухи крест с частицами Животворящего Креста, приложился к нему, вкусил просфору от святого Сергия и, творя молитву, поехал в передовой отряд. Тщетно князья и воеводы удерживали его. «Тебе следует стоять особо от битвы, - говорили они, - и смотреть на сражающихся, а потом жаловать живых и творить память по убитым. Если же мы тебя, государь, лишимся, то уподобимся стаду овец без пастыря: придут волки и распугают нас». - «Братья мои милые, - отвечал Димитрий Иоаннович, - добрые ваши речи достойны похвалы. Но если я вам глава, то впереди вас хочу и битву начать. Умру или жив буду вместе с вами».
Часов в одиннадцать с противоположных холмов стала спускаться татарская рать. Полкам татарским, казалось, и конца не было. Когда оба войска остановились друг против друга, выехал вперед татарин огромного роста, вызывая русских на единоборство. Увидал его инок Пересвет и сказал воеводам: «Этот человек ищет себе подобного; я хочу с ним переведаться!» - «Отцы и братья, - воскликнул Пересвет, - простите меня грешного. Брат Ослябе, моли за меня Бога! преподобный игумен Сергий, помоги мне молитвою своею!» И с копьем в руке поскакал он на врага. Татарский богатырь понесся ему навстречу. Противники ударили друг на друга с такою силой, что кони их упали на колени, а сами они мертвые свалились на землю.
Тогда обе рати бросились в битву. Такой битвы никогда еще не бывало на Руси. На пространстве десяти верст бились русские и татары; копья ломались, как солома; стрелы падали дождем; пыль закрывала солнечные лучи, мечи сверкали молниями, а люди падали как трава под косою; кровь лилась как вода и текла ручьями. Два часа уже длилось страшное побоище. Татары стали одолевать и думали уже, что русские будут побеждены.

Как вдруг свежий отряд русских вышел из засады и ударил на татар. Татары не выдержали этого натиска, дрогнули и обратились в бегство. Увидел Мамай, что татары бегут назад, сам сел скорей на коня, бросил шатер и ускакал... Русские далеко гнали татар и избили их многое множество. Весь стан и имущество татар досталось в руки победителей. Победа была великая, но вместе с тем и скорбная. От огромного русского войска осталось всего сорок тысяч. Более двухсот тысяч человек пало с обеих сторон, и Дон, как говорит сказание, три дня тек кровью...
Когда собрались оставшиеся в живых князья и воеводы, то заметили, что не было великого князя. Долго искали его по всему полю Куликову; наконец один воин нашел Димитрия Иоанновича чуть живым. Доспехи его были избиты, весь он был обрызган кровью; но он не был ранен и лишился чувств от утомления.
За эту великую победу Димитрий Иоаннович прозван Донским. Святою Церковью было установлено на вечные времена совершать поминовение убиенных на поле Куликовом в Димитровскую субботу. На самом поле поставлен памятник.