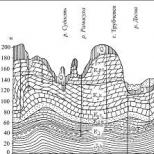Блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые. ? Какую Монголию посетил известный путешественник Плано Карпини
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые…Ф.Тютчев
© Бушин В. С., 2012
© ООО «Издательство Алгоритм», 2012
Вадим Кожинов и Станислав Куняев
Из записных книжек
В «Литературе и жизни», которую возглавлял милейший Виктор Васильевич Полторацкий, я проработал недолго, но печатался там много. Однажды на Цветном бульваре, где в одном здании с «Литературкой» находилась и «ЛиЖи», как ее иронически называли, встретил добрую приятельницу Лену, с которой познакомился летом 1953 года в Дубултах, в Доме творчества. Она – дочь известного еще с тридцатых годов критика Владимира Ермилова. У Асеева в поэме «Маяковский начинается» о нем несправедливо сказано:
К примеру:
скажите, любезный Немилов,
вы – прочно привержены
к классике форм
и, стоя
у «Красной нови»
у кормила,
решили, что корень кормила – от
«корм»?
Впрочем, на совести Ермилова несправедливостей тоже немало.
Асеев – второй (первым был Иосиф Уткин) живой писатель, которого я увидел в 1939 году на эстраде в Измайловском парке, где он как раз читал эту поэму, за которую получил Сталинскую премию. Ему тогда исполнилось пятьдесят лет. Помню, чья-то юбилейная статья о нем начиналась словами: «Он очень молод…» Ибо тогда считалось, что в пятьдесят человек уже чуть ли не старик.
Лена была с незнакомым мне парнем. Она представила меня так: «Это Володя Бушин, без которого не обходится ни один номер «ЛиЖи». Так и было. А спутник Лены оказался Вадимом Кожиновым, ее мужем. Злые языки говорила: «Он женился на библиотеке Ермилова». Говорят, библиотека действительно богатая. А печатался я много по двум причинам. Во-первых, газета только начиналась, материалов порой не хватало. Во-вторых, за годы аспирантуры и после у меня накопилось много неопубликованных статей.
25 марта 1959 года я напечатал там статью «Чувство слова», в которой речь шла о романах Федора Панферова «Раздумье» и Даниила Гранина «После свадьбы». В «Нашем современнике № 1 за 1960 год П. Пустовойт гневно обрушился на меня: «В. Бушин даже не пытается провести грани между речью писателя и его героев. Обнаружив слова «очухаться», «взъерепениться», «лупануть», кричит «Караул!» Что ж, Пустовойт совершенно прав. «Рецепты В. Бушина даже староверу адмиралу Шишкову показались бы анахронизмом». И тут прав. Сейчас даже не верится, что я писал такую чушь. Но что я! Даже Шолохов, видимо, под влиянием работы Сталина «Марксизм и языкознание» (1952) в одном издании «Тихого Дона» убрал слова и речения подобного рода и почти все диалектизмы. Слава Богу, потом восстановил.
19 августа 59 года в «ЛиЖи» была напечатана моя большая статья «Штампы бывают разные» – о Юрии Казакове, о котором тогда много говорили и писали.
В статье были и похвалы и критика, она преобладала. В таком духе: «Замечание Ю. Нагибина о том, что в рассказе «На полустанке» перед нами «неравный поединок душевной грубости с робкой, беззащитной нежностью», к сожалению, справедливо по отношению к большинству рассказов Ю. Казакова: в них «поединки», именно неравные и «нежность», именно беззащитная». Но сам Казаков, кажется, был доволен. Во всяком случае, при встрече сказал мне, что отмеченные мной «штампы» выписал и повесил над письменным столом, чтобы избегать их. Разговоров о моей статье было немало, но, кажется, в печати возражений не появилось.
Успел я напечатать там и свою первую – на два подвала! – шумную статью «Реклама и факты» – о критике в «Новом мире». Это же было осиное гнездо будущих прорабов перестройки: один Сарнов чего стоит. А тот же Турков!.. Говорили, Твардовский негодовал: «Нашелся новый Белинский!» Однако и тут никаких возражений или опровержений не последовало.
А с Кожиновым с тех времен у меня всю его жизнь были самые добрые отношения. Встречались мы редко, но перезванивались довольно часто. Как правило, я звонил ему, чтобы навести какую-то справку по литературе или истории. Он же был ходячей энциклопедией. Запомнился последние мой звонок: надо было уточнить некоторые строки стихотворения Ахматовой «Когда погребают эпоху».
Я знал, что у него дома бывают интересные встречи с пением старинных романсов, чтением стихов, разговорами. Вадим не раз приглашал меня зайти. Говорил: «Я живу ближе всех». Имел в виду – от ЦДЛ. Но я, к сожалению, так и не собрался. Я вообще упустил много подобных возможностей. К Шолохову многие ездили. А я видел его вблизи только один раз. Это было в декабре 1949 года на вечере, посвященном 70-летию Сталина в Большом зале консерватории. Мы с Игорем Кобзевым упрашивали Михаила Александровича придти к нам в Литературный институт. Он соглашался, поддакивал, но так и не пришел. Леонова тоже видел рядом лишь один раз – в Литературном институте он беседовал с какой-то группой студентов. Я его слушал и ничего не понимал. А гораздо позже, когда началась катавасия демократии, Евгений Иванович Осетров и Вадим Дементьев, часто бывавшие у Леонова, рассказывали мне, что он интересовался мной как автором хлынувших тогда крутых статей. Вадим приходил к нему со свежими газетами, и великий старик каждый раз спрашивал: «Есть что-нибудь Бушина?» Если было, Вадим читал ему вслух. И нередко он от души смеялся.
Симонова видел вблизи тоже один раз, в редакции «Дружбы народов». А потом – уже в гробу, стоя на сцене ЦДЛ в почетном карауле. Светлова – тоже… Зато пять лет просидел в той же «Дружбе» дверь в дверь с Ярославом Смеляковым. Однажды на редакционной пирушке он предложил тост за меня, чем я до сих пор горжусь. У меня была статья о его книге «День России», но тост был не после нее, а, видимо, после моей статьи «Кому мешал Теплый переулок?» в «Литературке» – о том, что надо прекратить бесконечные переименования и вернуть многим городам их прежние исторические имена.
Когда Кожинов умер, я написал о нем довольно большую статью и предложил, естественно, в «Наш современник», где он долгие годы был членом редколлегии. Куняев отверг статью:
– Он не был диссидентом, не был антисоветчиком.
– А я и не говорю, что был. Активным антисоветчиком – нет, ничего антисоветского он не писал, не делал. Но неоднократно признавался, что в начале 60-х годов под влиянием бесед с Михаилом Бахтиным пришел к отрицанию всего, что произошло в стране после 1917 года. Всего! Значит, и культурный взлет, и победу в Отечественной войне, и прорыв в космос… Период этот был краткий.
Вадим всегда неутомимо работал, много знал, и обширные познания помогли ему вскоре выйти на правильную дорогу, как не могут не вывести любого честного человека. Он много сделал для разоблачения вранья о советской эпохе, и я часто обращаюсь к его книгам за поддержкой.
Но Куняев был неколебим. Да и что я мог ждать от человека, который однажды сказал мне: «Привыкни к мысли, что я всегда прав». И это в пору, когда уже давно отменен даже эдикт о непогрешимости папы. Пришлось напечатать статью в «Завтра». Потом она вошла в книгу «На службе Отечеству».
Но некоторые непустячные несогласия с Кожиновым все-таки остались. Так, я был очень удивлен тем, как несуразно, но упрямо в беседе с В. Кожемяко он на страницах «Правды» защищал Солженицына, объясняя его подлости, например, против Шолохова, то забывчивостью, то увлеченность, то темпераментом.
И странно было мне читать его рассказ о том, как на первом курсе МГУ он принимал участие в выборе комсорга курса. Избрали Игоря Виноградова. Он, говорит, при этом произнес обязательную в таких случаях речь, в которой процитировал какие-то строки Маяковского. Потом Вадим подошел к Игорю и сказал: «Неужели ты не понимаешь, что стихи были написаны только ради славы и денег?» Так думать о поэтах и стихах в восемнадцать лет! Меня это просто ошеломило…
А у Куняева всегда ко мне непомерные требования. То отвергает мою статью, например, в защиту Юрия Кузнецова, то маринует целый год статью о Радзинском, которая, оказывается, нравится ему… Я и этот дневник предложил «Нашему современнику». Он прочитал, сказал, что тоже понравилось, будем печатать в 3–4-х номерах. Но ты, говорит, приписал мне слова одного моего знакомого, хвалившего Ельцина.
– Да? – удивился я. – А ты не хвалил? Если так, то даже не буду ничего проверять, верю тебе на слово и прими мои извинения.
На этом и поладили. Я стал ждать публикации дневника в журнале. Вдруг – письмо от Куняева: нет, ему мало моего извинения по телефону. Он требовал, чтобы я извинился еще и письменно, печатно, в противном случае грозил предать меня анафеме через Интернет. Как в свое время грозил Татьяне Глушковой опубликовать ее давние письма к нему, если она не прекратит критиковать и его и Кожинова, называя их «адвокатами измены», защищающими «авторитеты измены» – Солженицына и Шафаревича. И опубликовал!.. О господи… Ведь та моя ошибка с цитатой, что засела в него в печенках, была лет пятнадцать тому назад! Не знаю, украсил ли он Интернет своей инвективой против меня. Не интересовался.
1960-е
Абрам и Аржак
В первой книжке «Нового мира» напечатана большая ст. А. Меньшутина и А. Синявского «За поэтическую активность». (Я напечатал в «Молодой гвардии» статью «Фиалки пахнут не тем» (заглавие взято из популярного тогда спектакля театра кукол Сергея Образцова «Обыкновенный концерт»). Написал, что авторы, декларируя творческую активность, изменяют своей декларации, подменяют активность жизненной позиции, содержательность поэзии изысками формы, которые нахваливают сверх меры. И это измена особенно отчетливо видна при обращении соавторов к стихам Вознесенского, объявленного ими «одним из самых интересных поэтов младшего поколения». Они пишут, что его позиция – «наступление, натиск, вмешательство в жизнь и литературу, позиция активного самоопределения и самоутверждения». Ну, самоутверждения действительно много, но как, где, когда поэт вмешался в литературу и тем паче – в жизнь? Этого в статье нет. А на что наступает он, против чего направлен его «натиск»? Тоже неизвестно. Впрочем, об одном вмешательстве Вознесенского в литературу я писал в первой книге воспоминаний: в номере газеты «Литература и жизнь», посвященном юбилею Толстого, он напечатал стихи, посвященные юбиляру, а в пору демократии объявил, что они посвящены Пастернаку. Или это не вмешательство, а что-то другое?
* * *
Через всю мою статью проходила мысль о том, что авторы то и дело изменяют себе, т. е. самими же провозглашенным принципам, идеям. Однако потом обнаружилась измена гораздо более важная. Андрей Синявский выступал в советской печати хотя и со спорными, но вполне литературно приемлемыми лояльными статьями, а еще с 1956 года, после хрущевского XX съезда партии посылал на Запад свои статьи, теоретические трактаты и рассказы, которые с 1959 года печатал там под псевдонимом Абрам Терц. Тут, как пишет его доброжелательный биограф антисоветчик В. Воздвиженский, он представал «в образе не знающего ничего святого мистификатора и сквернослова… Это позволяло Синявскому остро и пряно показывать с изнанки пресловутый «советский образ жизни». Ничего святого не было для него прежде всего в советской жизни, которая, несмотря на репрессированного отца, дала ему возможность окончить Московский университет, аспирантуру, защитить диссертацию о Горьком, стать преподавателем МГУ и членом Союза писателей, в который он вступил уже после пяти лет тайной клеветы на свою родину и Советскую власть. Между прочим, его отец, оказывается, был дворянином. Так дворянское ли это дело – прятаться за еврейский псевдоним да еще за бугром.
В 1965 году Абраша был схвачен и разоблачен. В 1966 году его судили вместе с Юлием Даниелем, который промышлял тем же самым. Интересно, Синявский, будучи русским, орудовал под еврейским псевдонимом, а еврей Даниель – под русским именем Николай Аржак. Но оба псевдонима взяты из блатного мира. Дали Синявскому семь лет лагерей с зачетом предварительного заключения, на два года больше, чем в 1951 году дали его отцу, правда, не лагерей, а поселения в Сызрани.
Помянутый биограф пишет: «Срок Синявский отбывал в Мордовских лагерях на тяжелых работах». Сидел он не семь лет, а пять, два года бессердечная власть скостила Абраше. И тяжелые работы не помешали ему написать и переслать жене 1500 страниц своих записей, которые после освобождения в 1971 году и отъезда в 1973 году во Францию, где он, конечно, тотчас превратился в профессора русской литературы Парижского университета, стали основой двух книг – «Голос из хора»(1973) и «Прогулки с Пушкиным» (1975). Суть последней точно выразил, кажется, Роман Гуль в рецензии «Прогулки хама с Пушкиным».
Ельцинскую контрреволюцию Синявский, разумеется, приветствовал, как зарю новой прекрасной эпохи, но потом, воочию увидев (он приезжал в Россию) мурло демократии, все-таки, как Солженицын, немного очухался. Умер где-то под Парижем в 1997 году.
КГБ, Сапфо и Вова Котов
В пору работы в «Молодой гвардии», в октябре 1961-го, на теплоходе «Феликс Дзержинский» я прокатился из Одессы в Египет с заходом в Пирей-Афины и Стамбул. Не один, конечно, а с группой туристов, в которой, впрочем, не было ни одного знакомого. Перед отъездом была наставительная беседе в здании бывшего американского посольства на Манежной площади. Что ж, почему кое-что не объяснить людям, которые едут за границу впервые? Потом мне позвонил в редакцию и пригласил побеседовать некий майор из КГБ, он тоже ехал с нами. Мы встретились у Большого театра под навесом вдоль левой стены. Он говорил, что я, мол, надеюсь на ваше содействие и помощь в случае чего. О чем говорить! Если какой-то чрезвычайный случай, я и без него принял бы посильные меры.
А как только вечером теплоход отошел от одесского причала, я сразу направился в бар и познакомился там с молодой русской парой из Франции: Олег и Марина. Ее фамилия Горбова, его – Галяев. Олег настроен очень прорусски: много рассказывал о знаменитых людях русского происхождения по всему миру. А она не помню, что говорила, но была очень мила. Прекрасно провели вечер. Обменялись адресами. На другой день, кажется, в Стамбуле они сходили. Я помог им нести вещи к трапу.
Когда шли по Эгейскому морю, я послал своей сотруднице по отделу критики Искре Денисовой телеграмму: «Слева по борту остров Лесбос вспоминаю стихи Сапфо и Володи Котова салют».
Когда вернулись в Москву, майор КГБ опять позвонил мне, и мы опять встретились под навесом Большого театра. Он спрашивал о впечатлении. Я отвечал, что все было прекрасно. «А вот эта пара, с которой вы беседовали в первый вечер… Вы не завязали знакомство, не обменялись адресами?» Я твердо соврал: «Нет!» А под Новый 1962 год Марина прислала мне поздравительное письмо, очень трогательное и забавное, не шибко грамотное. Очень хотелось ответить, но я не решился: ведь сказал же я ему, что не обменялись адресами. Жаль, жаль… Она жила где-то у Эйфелевой башни: Marina Gorвoff 22 rue de Passy Paris16, а Олег – в Булони-на-Сене.
Кутеж в «Метрополе» как взятка
Сегодня в «Литературке» напечатан мой фельетон «Неаполитанские рулады на венецианских набережных» о повести Ивана Лазутина «Лебединая песня» в журнале «Байкал» (Удан-Уде). Я начал его так: «Герой повести Сергей Стратонович Кораблинов – «известный в стране актер, ведущий кинорежиссер, знатный профессор, педагог, отец семейства и дважды дед… Мы встречаем его в час великого умственного и душевного напряжения. Он терзается вопросами: «Какова она? Красивая? А что если старая кочерыжка?» Она – женщина, назначившая ему по телефону свидание. Кочерыжек Кораблинов терпеть не мог».
* * *
О, это стоит вспомнить… В Российском союзе писателей мне поручили сделать обзор журнала «Байкал». Я начал работать. Время шло… Вдруг мне звонит главный редактор журнала Африкан Бальбуров и просит встретиться. Он как-то пронюхал, что обзор делаю я. Назначает мне встречу у входа в «Метрополь». Как отказаться? Человек приехал с того бока земного шара. Я соглашаюсь. В назначенный день и час явился. Он тут же, с ним знакомый мне Норпол Очиров, тоже бурятский писатель, учится в аспирантуре Литинститута. Ведут меня в зал с фонтаном, к уже занятому столику. Оказывается, Африкан тут свой человек, официанты его знают. «Что будем пить?» Делает роскошный заказ. Прекрасно! Выпили по рюмочке, по другой… Вдруг… появляется Иван Лазутин. Они разыгрывают радостную случайную встречу. Иван садится за стол, и кутеж продолжается. Он – автор ужасно популярной тогда повести «Сержант милиции», переизданной раз двадцать.
И вот все трое начинают меня убеждать, какой прекрасный журнал «Байкал» и как замечательна недавно напечатанная там повесть Лазутина «Лебединая песня» Что делать? В «Литературке» лежит мой фельетон об этой повести, кажется, даже набран уже. Что делать?.. Пиршество-обработка продолжается часа два-три. Наконец, выходим на улицу. Оказывается, тут у подъезда меня уже ожидает такси, и кто-то преподносит мне огромный букет прекрасных цветов. В такси до Измайлова меня провожает Норпол. Он всю дорогу продолжает меня агитировать.
Утром я опять в терзаниях: что же делать?.. Я взял фельетон – может что-то смягчить? – и стал его перечитывать: «Герою пятьдесят семь лет, но – «это еще не закат, это еще зенит», уверяет он себя. Правда, уже не та прыть, когда «молодой, красивый, он не знал, что такое гипертония» и ощущал в себе «всю унаследованную от тамбовских дедов и прадедов лихость и удаль, но все-таки кое-что еще осталось…
В назначенный час, обманув бдительность супруги (она оплошно ушла на кухню) тщательно одетый Кораблинов явился на условленное место. Сложные чувства владели им. Дважды дед смущался. Но в то же время его захлестывали «приливы давно забытого юношеского трепета».
В руках у знаменитого гипертоника розы. Один лепесток упал на ботинок. Надо бы снять, но он не решается, ибо «при его высоком росте никто не замечает лысину на макушке. А если нагнуться…»
Но вот, наконец, и она! О, это совсем, это весьма не кочерыжка, это – «молодая озерная камышинка» под названием Светлана.
Дальше было «как-то стихийно, само собой. Разница лет была стерта». Последнее обстоятельство весьма существенно, ибо разница составляла ровно четыре десятилетия. Но, видно, уж так сильна была в знатном профессоре закваска тамбовских предков!
После первого свидания Светлана не спала всю ночь, а рано утром побежала к памятнику Пушкина, к которому Кораблинов во время их прогулки положил букет роз, сорвала один лепесток и от избытка чувств съела. Потом поехала к тете (она-то надоумила ее позвонить режиссеру) и бросилась ей на шею со словами: «Это не человек, а вулкан! Я забыла все на свете! Мне казалось, что я иду с ним не по Москве, а по венецианской набережной и слушаю неаполитанские рулады».
Но тетушка вовсе не желала, чтобы племянница забыла все на свете. У нее была ясная цель: устроить красотку-племянницу через Кораблинова с Институт кинематографии. «До тех пор, пока не станешь студенткой, ты должна обещать ему все» – поучала она племянницу.
И вот второе свидание. Уже не прогулка по улице Горького, а ресторан. А потом на улице он спросил:
– Вы хотите стать актрисой? И не постоите ни перед чем ради этого?
– Ни перед чем! Никогда! – воскликнула Светлана, выполняя инструкцию тетушки.
– Вы готовы жертвовать? – вновь спросил человек-вулкан.
Вулкан остановил такси: «В Сокольники!»
Под скрежет коробки скоростей и монотонно-грустное пощелкивание счетчика он стал целовать Светлану и заклинать: «Я люблю вас!.. Я сделаю из вас знаменитую актрису!.. Княжну Мэри будете играть вы!..» Но тут произошло то, чего дважды дед никак не ожидал. Вероятно, не ожидала и сама девица. Она вопреки теткиным инструкциям вдруг воскликнула:
– Вы гадкий и грязный старик! – и закатила вулкану пощечину, и тут же ее руки, «словно крылья белой голубки еще несколько раз мелькнули перед его лицом». – Я без вашей помощи буду актрисой! – С этими словами Светлана выскочила из такси.
Очухавшись, старикан тоскливо подумал: «Да, вот она моя лебединая песня». В сопровождении пощечин».
Дальше не буду пересказывать фельетон, а замечу: Светлана действительно поступила во ВГИК без помощи Кораблинова. Что ж получается? Семнадцатилетняя девушка не дала и не приняла взятку в виде студенческого билета и добилась своего. Да это же вдохновляющий образ! Молодец Иван Лазутин! А меня хотят купить за двести грамм коньяка да тройку бутербродов с черной икрой и осетриной? Нет же! Нет, братцы! И пусть это будет им уроком, как Кораблинову. Будут знать, что взятки не только в виде студбилета, но даже и в виде угощения в «Метрополе» не всегда и не на всех действуют. И фельетон появился в «Литературке» безо всякой правки.
Между прочим, за всю мою литературную жизнь было лишь две попытки подкупить меня. Вот эта да еще однажды какой-то сочинитель, огромный роман которого я рецензировал для «Профиздата», нагрянул откуда-то из с Урала или Сибири ко мне домой с парой-тройкой каких-то роскошных рыбин.
Как было отказаться, когда это подносилось как дар Сибири или Урала. Впрочем, и рыба, как застолье в «Метрополе», не сломили мою железную волю.
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!?
Напомню: эти известные практически всем две строки написал Федор Иванович Тютчев. Что следует дальше, уверен, большинство не помнит - не помнил до недавнего времени и я. Привожу для ясности весь короткий стих: ЦИЦЕРОН Оратор римский говорил Средь бурь гражданских и тревоги: "Я поздно встал - и на дороге Застигнут ночью Рима был!" Так!.. Но, прощаясь с римской славой, С Капитолийской высоты Во всем величье видел ты Закат звезды ее кровавый!.. Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был - И заживо, как небожитель, Из чаши их бессмертье пил! <1829>, начало 1830-х годов Теперь с утверждением Федора Ивановича все ясно. Аргументацию "блаженства" он привел вполне правдоподобную. Есть здесь, правда, один скрытый момент: в русском языке слово "блаженный" имеет еще один смысл. Сошедший с ума, юродивый и т.п. Это неявное противоречие из области диалектики живого языка оставим на потом. Тютчев, как поэт, известен многим, сложено много чарующих романсов на его слова. Но он еще и один их выдающихся русских мыслителей эпохи Пушкина. Об этом говорят многие его стихи: необычайная глубина философского постижения сущности явлений. Правда, в этом качестве он, насколько мне известно, славянским научным сообществом не признан. О западном вообще молчу. А вот что тогда делать с прямо противоположным выражением, ставшим афоризмом, который тоже знают многие: древнекитайским проклятием "чтоб вам жить в эпоху перемен"? Очевидно, они, по сути, противоречат друг другу. И ни одно из них нельзя списать в расход - оба подтверждены нелегкой человеческой историей. Давайте разбираться... Вернусь к началу: зачем вообще эта статья? Не только для установления истины во вроде бы чисто философском споре, кто же прав - это может быть ценно для науки о познании, гносеологии. Но, думаю, не менее важно - с чисто "психотерапевтическими" целями. (Хотя, судя по откликам читателей на мои работы, некоторые заявляют, что не уполномочили меня на оказание им, как я ее называю, консультативно-информационной помощи. Ну да ладно, не собираюсь быть насильно милым, и сторонников себе не вербую. Кому нужно - предложенную помощь примет. Или же: было бы вам предложено...). Ведь выжить в сегодняшней Украине очень трудно. И не только из-за бедности или откровенной нищеты подавляющего числа простых тружеников и тех, кто уже или еще не может заработать себе на жизнь. Об этом сейчас знают все, разве что кроме горстки разномастных фанатиков, которые окончательно и опустили народ. Очень многие люди, находясь долгое время под запредельным стрессом, поставлены за эти пять лихих лет на грань психического спазма, депрессии, помешательства, самоубийства. Вот им-то справедливо бы помочь - суровым, но лечащим словом. Человеческая жизнь коротка, это мы знаем. Радостей в ней, как правило, мало, горестей - больше. Так устроен человеческий мир, и с этим спорить бесполезно. Можно задавать вопросы "за что" - только умнее оставить их детям. А взрослым пристало спрашивать "почему". И пытаться разобраться, по каким законам природы. И, возможно, увидеть хоть эту каплю позитива и в тяготах наших дней... Действительно, сегодняшний мир, уже весь, вошел в эпоху перемен - больших перемен. Не только меняющих его видимое всем лицо. Начала меняться сама его сущность - а это нечасто бывало. И оттого насколько успешно люди сумеют воспользоваться этими переменами, зависит его судьба. Это если без апокалиптических предсказаний, которых с седой древности было предостаточно. Так что поэзия и искусствоведение здесь не причем - разговор, как обычно сквозит в моих работах, о проблеме глобального выживания. Ответственные руководители государств сегодня справедливо заявляют, что это общий шанс на улучшение жизни на планете. И импульс к укреплению национальных государств, да и для всех активных людей, стимулирующих развитие общества. Спорить с этим не будем - справедливо. Только подчеркнем: главное - в чьих интересах будет на деле проводиться это развитие. Если в интересах большинства человечества - тогда большинство землян будут "за". И тогда есть шансы. Если же ситуацией сумеют, как обычно бывало, воспользоваться те силы, которые из-за кулис управляют миром, тогда дело кончится плохо. Для всех, и для них тоже - только пяти миллиардам от того будет не легче. Но мы-то здесь ведем речь только о том, как воспринимать то, что мы все попали в эту эпоху. Как блаженство, т.е., счастье - как минимум, удачу. Или как горести, несчастье. Конечно, подавляющее большинство людей воспринимают это как несчастье - и они правы. Ничего, кроме сложностей и неприятностей, им это не приносит. Так что китайцы тоже были правы! Тем более, что любая мудрость, даже древняя, относится, как правило, ко всему человеческому роду. Исключение составляет только малая часть этого самого рода. Это активные люди - с высокодинамичной психикой, способные воспользоваться большими переменами как импульсом для реализации своих идей и жизненных планов. В любом обществе их, по различным оценкам, порядка 10%. Примерно столько же, в силу своей психофизиологии, вообще не могут приспособиться к этим радикальным переменам - и, в самом общем смысле, переходят в широкую категорию маргиналов. Людей, вытесненных процессом перемен на периферию общества. Или вообще за его пределы. Остальные, примерно 80%, с большим или меньшим успехом приспосабливаются. Огромное значение при этом имеет возраст - по понятным причинам, молодости легче воспринимать перемены и адаптироваться к ним. Более пластичная психика. Вот и весь расклад. В этом смысле Тютчев и отнес именно наиболее активных к сонму "вседержителей" т.е., участвующих в определении судеб мира. И как раз здесь скрытая диалектика русских слов. От такого блаженства с непривычки можно и разума лишиться. Стать чем-то вроде юродивого. Вот какой широкий спектр приспособительных реакций человеческого рода - и все это обусловлено обьективными законами человеческой природы. Без разделения по социальному статусу, уровню образования, профессии. Есть несколько категорий "блаженных". Среди них особенно много людей из бизнеса, искусства, политики. Понятно, что большие и резкие перемены открывают перед ними исключительные возможности. И многим из них удается их реализовать. Примеры каждый может найти в изобилии в современной истории - тем более на наших славянских землях, за последние четверть века. Это тянет даже на статистику больших чисел, то есть на достоверность. Особую группу составляют люди науки. Для них тоже действует это исключение. Конечно, не для всех. Преимущественно, для работающих в ее новых, пограничных и стыковых отраслях. И особенно для занятых проблемами человеческой природы и общества. Такие времена для многих из них - подарок судьбы. Действительно, это возможность приблизиться к пониманию сущности вещей, как говорил еще Шекспир. Скрытая в спокойной обстановке, она требует для познания труда в течение долгих лет. И раскрывается именно в такие периоды времени. Ведь тут дело не только в таланте, страсти и трудолюбии ученого - "неустанном думании", как сформулировал это Павлов. Важны еще благоприятные моменты - именно время больших перемен. Своеобразное "окно глубинного познания". С их позиций, попасть в такую эпоху, конечно, редкая и большая удача. Можно даже с большой натяжкой сказать, счастье. Только тяжелое. Помните, как в песне: "...Это радость со слезами на глазах...". Что-то вроде этого. Плата за такую "удачу", таким образом, высока. Но "Париж стоит мессы", как повторяют с давних времен. Об этом Тютчев, как человек глубокого философского ума, несомненно, знал, но умолчал. Убежден, не по вредности или хитрости - так уж вышло. Чтоб ненароком не испугать без нужды особо чувствительных. Я убежденный материалист и, понятное дело, не могу чувствовать себя попавшим "к небожителям на пир". Но исключительность этого периода, в том числе и в своей жизни, чувствую давно - занимаясь проблемой глобального выживания. Особенно начиная с середины 2008 г., когда закономерно грянул финансово-экономический кризис. Наступил, наконец, момент истины для всей цивилизации. У которой спрятать, как бывало раньше, голову в песок уже не получится. История не позволит - а она дама очень своевольная (а если сухим языком науки, обьективная). Идти поперек ее железной логики слишком дорого себе выйдет. Вот и вся суть предлагаемого разрешения этого противоречия между российской и древнекитайской мудростью. Оно явно диалектическое - и существует согласно одному из трех законов диалектики: о единстве и борьбе противоположностей. И косвенно, еще одному: о всеобщей взаимосвязи. Причем это справедливо для природы любых вещей и явлений в природе. Мы это как раз сейчас и наблюдаем не только в нашей личной жизни, а и на всей планете. В предельно обостренном виде. И снова о своем: ну а если говорить о нас, можно только с ужасом вспоминать о пяти пропащих годах жизни целой страны. Это, несомненно, только для не ведающих что творят, могло пахнуть блаженством. Но теперь, когда в Украине новый Президент, появились шансы на выживание. И появился смысл стараться, кто как может. И может, некоторая приятность (шучу) появится. Сергей Каменский, 20 февраля 2010. Одесса, Украина, планета Земля "под лучами звезды по имени Солнце"...
В Рождественский сочельник 1971 года, я, впервые в жизни, оказался в Лондоне, и впервые в Успенском Соборе на Эннисмор Гарденс. За шесть месяцев до того окончательно и, казалось тогда, бесповоротно покинул СССР.
Пойти на утреню в другую, не Патриаршую, церковь не приходило в голову. Я родился и провёл юность в Париже, а потом двадцать пять лет, поневоле, в стране Советов, где «оформился» сознательным и, по мере слабых сил, деятельным антикоммунистом. За те же годы стал безмерно любящим Русскую церковь прихожанином. Я обязан Церкви духовным выживанием как в последние годы бытия т. Сталина, так и позднее, когда пребывал в исправительно-трудовых лагерях, и после, в бескислородный «застой».
Моя любовь-благодарность к Русской церкви не была слепой: в шестидесятые годы устроилось так, что многое во внутренней жизни и настроениях тогдашнего церковного руководства и приходов мне было известно. Так что, если бы рассказ шёл об удручающем, даже о страшном в истории подсоветской РПЦ, то боюсь, пришлось бы нарастить память компьютера…
Владыку Антония (Блума) лично я тогда практически не знал, несколько раз видел в Москве, но издалека.
Церковь на Эннисмор Гарденс была полна русскими «первыми» эмигрантами в двух поколениях и «второй волной», тоже два поколения. Понятие «новый русский» тогда не существовало и могло вызвать в то время лишь недоумение, границы ведь на замке! А обращение в православие англичан лишь начиналось, присутствия «оглашенных» совсем не ощущалось. Для меня это было первое Рождество после выезда из Москвы, в бытовой неустроенности, вдали от родителей – увидимся ли ещё? – и о чём молиться искать не приходилось… А сами церковь и служба – будто стою в родном приходе на Якиманке, у Иоанна Воина!
К концу службы Владыка Антоний стал оглашать Рождественское Послание Патриарха Пимена. Со смыслом праздника авторы Послания разделались быстро, и когда с третьего абзаца, со всеми подробностями, речь пошла «о ядерном разоружении и положении на Ближнем Востоке», мной овладело недоброе отчаяние. Оказался ли я в Британии – прямо сказать через риск и опасность второго лагерного срока – для того, чтобы в радостный праздник в Храме Божьем, снова подвергнуться мякине постылой пропаганды? И даже сейчас стыдно вспомнить интенсивность негативных чувств во мне тогда взбурливших. Вот, подумал я, и здесь «они» меня нагнали, и всюду «они» есть, и в Британии устами такого священнослужителя вещают… После прочтения официального поздравления из Москвы Владыка Антоний сказал: «Добавлю несколько слов от себя».
О яркости его проповедничества, о блеске его ораторского дара – уже много написано и рассказано. Но в тот момент получилось, будто митрополит Антоний почувствовал, что стоит среди прихожан один человек и злится услышанному, что ждёт другого.
Он построил свое слово на «трагичности» Рождественской ночи, объяснил, в чём «трагичность» Рождества и продолжил: «И в этом году мы переживаем трагическую ночь: в России пока мы с вами молимся и празднуем, очень многие в духе и плоти своей страдают в советских политических лагерях, подвергаются фармакологическим пыткам в советских спецпсихбольницах… в особенности, я думаю о Владимире Буковском… Очень многие лишены вообще возможности в эту ночь пойти в храм ».
Оцепенение от таких слов в устах «московского архиерея» – это мало сказать о моём состоянии. Объяснять почему – не приходиться.
 Такие подвижники как Владыка Антоний, как Владыка Василий Брюссельский, многие другие, по вере, мужеству и наитию пошли даже на то, чтобы среди собратьев-эмигрантов прослыть «продавшимися Советам», пошли они и на подневольное чтение в церкви по сути не церковных текстов потому, что предугадывали: своим личным присутствием в Русской Церкви, своим свидетельством на Западе о подлинной вере русского народа, поездками в страну, они являют прообраз будущей, свободной церкви и может быть, ускоряют момент её возрождения. Так оно и свершилось.
Такие подвижники как Владыка Антоний, как Владыка Василий Брюссельский, многие другие, по вере, мужеству и наитию пошли даже на то, чтобы среди собратьев-эмигрантов прослыть «продавшимися Советам», пошли они и на подневольное чтение в церкви по сути не церковных текстов потому, что предугадывали: своим личным присутствием в Русской Церкви, своим свидетельством на Западе о подлинной вере русского народа, поездками в страну, они являют прообраз будущей, свободной церкви и может быть, ускоряют момент её возрождения. Так оно и свершилось.
Этим Рождественским словом покойный Владыка Антоний навсегда стал мне близким.
Было с ним потом у меня несколько бесед, и ощущение, что различение духов было в нём настолько глубоким, что чувствовал я себя рядом с ним почти неловко. Один раз он сам крестил новорожденную русскую лондонку, а я был восприемником. В то время я пребывал в тяжёлых внутренних перипетиях и позволил себе об этом Владыке рассказать. Данный им ответ был как рецепт, и я его применил, и благодарен за постепенный выход из мрака.
В церкви Трёх Святителей в Париже, зимой 2006 года, была устроена содержательная конференция, посвящённая жизни и духовному наследию Владыке Антония. С пользой для себя я слушал интереснейший рассказ иеромонаха Нестора (Сиротенко) о парижской молодости Владыки, госпожи Кирилловой о всём сделанном Владыкой в Лондоне и Преосвященного Василия (Осборна) о современном церковном строительстве. Тогда Владыка Василий рассказал о том, как митрополит Антоний, уже будучи тяжело болен, воскликнул «Наконец!», услышав прочтённое ему Послание Святейшего Патриарха Алексия II от 1 апреля 2003 г с предложением создать в Западной Европе единую Митрополию.
А незадолго до кончины, митрополит Антоний, рекомендуя епископа Василия Святейшему Патриарху Алексию, писал: «У него верность пастве без ограничения и он будет служить верой и правдой нашей родной Церкви» (март 2003). А чуть позднее, в июне, тоже о владыке Василии: «Он делает очень большую и сложную работу по восстановлению единства Сурожской епархии и её верности Московской Патриархии…». Чуть выше я говорил о даре «различения духов» у приснопамятного митрополита Антония. В данном случае как же он просмотрел? Поистине лишь Господь всеведущ!
После недавнего Светлого Воскресенья, Пасхальные поступки, слова, письма, заявления владыки Василия (Осборна) погрузили парижских (да и не только парижских!) русских православных в состояние изумлённого удручения. Омрачить негаданную радость подаренной промыслительным и долгожданным сближением между двумя ветвями русской церкви Вл. Василий, конечно, не в состоянии…
Слова, документы и заявления, в изобилии поступающие из Лондона путаны и противоречивы: сначала заверения в верности Русской церкви, спустя две недели – стремление под Константинопольский омофор, и наконец – мало почтительный сумбурный «вопросник-анкета», направленный постскриптумом самому Святейшему….
Непросто вникнуть в мотивы и логику явно не спокойного сознания Владыки Василия, когда читаешь его слова: «Я бы хотел ясно дать понять, что я полностью поддерживаю единство Русской Церкви в Западной Европе и считаю, что нынешний шаг является наилучшим способом достигнуть этой долгосрочной задачи».
Уважение к священному сану у меня есть! Сочувствие к человеку, раздираемому чуждыми, наверняка ему самому, силами – тоже.
Но при изучении противоречивых заявлений, не могу не вспомнить любимых мной слов Кавторанга Цезарю Моисеевичу из Солженицинского «Одного дня Ивана Денисовича»: «Удивляюсь и проклинаю!»
Что же получается? При железном занавесе спокойнее жилось? В составе делегаций, безопасно кататься в Москву и Загорск? А ответная делегация не такая уж многочисленная и не требующая хлопот? И на службе в Елоховском – старушек православных поодаль держат, а то от них ритуализмом и суеверием попахивает… И скромный малотиражный церковный календарь с Чистого переулка присылают! Сплошная тишь да гладь, и Потёмкину самому такие церковные деревни не мерещились!
А как стены берлинской с Куроедовской конторой не стало, тут неожиданно в Лондон старушек понаехало, девушек неприкрытых, и молодых мужчин с тяжёлыми золотыми крестами на груди, пиджак нараспашку… Тут по аглицки псалма спокойно не спеть, не поймут ни Флоренского, ни Бердяева.
Выходит освобождение России, обретение мощей преподобного Серафима, открытие монастырей, расцвет народной веры, православного книгоиздания, свободный приезд русских и не только их – всё пошло только на вред Церкви и в нарушение комфортной тёплой обжитости лондонцев и парижан? Не лучше ли вам, господа, досточтимые отцы, вспомнить о ваших предках погибших в Кубани, на Перекопе, и в подвалах чекистских…
А уж если говорить «о миссии», то, как её пришлось выполнять десяткам тысяч русских эмигрантов, шахтёрам в Лотарингии, тысячам русских офицеров загнанных в тропический Парагвай, в Тунис и Шанхай?
Не пройдёт и поколения как «новые русские», шокирующие нынешние «интеллигентские» приходы в странах Европейского Союза приведут к русскому православию своих однокурсников и соседей по Оксфорду.

Епископ Василий (Осборн)
Владыка Василий, по Ленину, предлагает «разъединиться, чтобы лучше объединиться»: «Вы, русские со своими обычаями по себе, а мы (как бы белая кость) – в Стамбул… (интервью Би-Би-Си 17-ого мая: «Нет, им /т.е. русским/ просто следует оставаться под юрисдикцией Московского Патриархата, у которого есть всё необходимое, чтобы окормлять эту паству – финансовые ресурсы, священники из России»).
Но ведь Владыка Василий и есть Московская Патриархия! Мне всегда казалось, что миссия пастыря не в завлечении овец «со стороны», а в содержании «своих» вместе!
Мне довелось быть заключённым в одном политлагере с будущим митрополитом Корнилием Таллинским и Эстонским (тогда молодым вологодским батюшкой). Не так давно, в Таллине, он мне рассказывал о мытарствах пережитых русской православной Церковью в Эстонии: с Божьей помощью закончилось объединительно.
«Блажен, кто посетил сей мир…» – Будем молиться, о том чтобы «лихие повороты» свершаемые сегодня Владыкой Василием (Осборном) закончились, и чтобы его маршрут вернулся бы на магистраль Москва – Сергиев Посад и Русское Православие, а мытарства Сурожские и Команские завершились тем, что свершится пожелание, выраженное Святейшим Патриархом 1-го апреля 2003 г. – Общеевропейской митрополией православных церквей русской традиции. Да сбудется!
«Цицерон» Федор Тютчев
Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Так!.. Но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый!..Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
Анализ стихотворения Тютчева «Цицерон»
Федору Тютчеву довелось жить в эпоху глобальных мировых изменений, когда общественное сознание перешло на новую ступень развития, породив иные формы взаимоотношений между людьми. Будучи дипломатом, Тютчев мог лично наблюдать, как меняются основы государственности в европейских странах, и процесс этот сопровождается общественными волнениями. В 1830 году поэт под впечатлением от Французской революции написал стихотворение «Цицерон», в котором попытался провести параллель между некоторыми событиям. Известно, что Тютчев увлекался историей, и среди книг его библиотеки было собрание сочинений Цицерона. В книгу вошли письма римского императора, в которых он также пытался найти ответ на вопрос, почему весь мир катится в пропасть, и как удержать его от этого падения. Именно Цицерону принадлежит крылатая фраза «О времена! О нравы!», которая лучше всех других высказываний характеризует то смятение, которое царит в душе римского сенатора.
Принято считать, что Цицерон был последним правителем Рима, при котором этот город действительно процветал. После его изгнания и убийства город погряз в интригах и гражданских войнах. Поэтому в своем стихотворении Тютчев отмечает, что «прощаясь с римской славой», этот правитель «во всем величье видел» падение города и демократии, «закат звезды ее кровавый».
Если читать это произведение между строк, то становится очевидным, что Тютчев проводит параллель между падением римской империи и Французской революцией . Для поэта оба эти события имеют общую подоплеку, так как символизируют собой разрушение, подрыв основ государственности и моральное разложение общества. Тютчев не берет на себя ответственность анализировать причины, которые привели к подобному развитию событий, хотя намекает, что и в первом, и во втором случае виной всему являлись закулисные интриги и банальная борьба за власть. Однако не это занимает поэта, а тот факт, что он является очевидцем смены общественных формаций. Ведь революции происходят далеко не каждый день, и в достаточно стабильном современном мире очень сложно заставить людей не только переосмыслить свою жизнь, но и попытаться ее изменить с оружием в руках. Поэтому поэт отмечает, что «счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые», подразумевая, что лично для него стать свидетелем исторических события является великой честью. Несмотря на хаос, который в этот момент царит во Франции, Тютчев приветствует изменения в обществе, так как считает, что они являются двигателем прогресса и дают новый толчок для развития любого государства.
При этом поэт не считает нужным оценивать подобные перемены с политической точки зрения. В этом отношении он ведет себя как истинный дипломат, который предпочитает держать крамольные мысли при себе. Ведь не секрет, что Французская революция в высших кругах российского общества была воспринята с осуждением. Более того, царское правительство предприняло ряд мер, чтобы «европейская зараза» не распространилась и на территории Российской империи. Поэтому неудивительно, что Тютчев рассматривает это историческое событие через призму веков, пытаясь донести до читателей мысль, что любые изменения в обществе, даже если они сопровождаются кровавой бойней, являются не просто поворотным моментом в истории, но и способствуют развитию государства. Даже если оно рискует прекратить свое существование, как это, в конце концов, случилось с Римской империей. Но подобных ход событий поэт считает более естественным и продуктивным, чем моральное загнивание и разложение общества, погрязшего в грехах и пороках.
Владимир Бушин
Я посетил сей мир. Из дневников фронтовика
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Но прежде замечу…
Я начал вести дневник в двадцать лет на фронте. Уже после войны узнал, что это запрещалось, но я никаких запретов не изведал, может быть, потому, что, будучи радистом, делал записи чаще всего во время одинокого ночного дежурства на РСБ (радиостанция среднего бомбардировщика, установленная в виде закрытого фургона на полуторке). К тому же я был комсоргом роты и в этом качестве нередко приходилось бывать в ее разных, разбросанных по линии фронта взводах и отделениях, т. е. быть не на глазах начальства. Это также давало определенные возможности для ведения дневника. Да и знал о моем дневнике, пожалуй, только мой ровесник и друг Райс Капин, казах из Ташкента с довольно странной для казаха фамилией. Светлая ему память…
Мариэтта Чудакова, известная специалистка по дневникам, пишет, что форма дневника «позволяет создавать иллюзию свободного выражения мыслей и впечатлений автора» (КЛЭ, т.2. с.707). Что за чушь – почему иллюзию? Я писал все, что хотел, безо всяких иллюзий. Другое дело, что в моем дневнике нет записей, например, подобных этой:
«Утро человека начинается бурной физиологией. Человек гадит, мочится, издает звуки, харкает и кашляет, чистит протухшую табачищем пасть, вымывает гной из глаз и серу из ушей, жрет, рыгает, жадно пьет и остервенело курит. Насколько опрятнее пробуждение собаки.
Тяжелое хамство дремлет в моей груди.
Не осталось ничего, лишь скучная, бессильная злоба».
Какая тонкая наблюдательность! Какая откровенность! 3 ноября 1951 года это написал в своем дневнике уже всего объевшийся, утопавший в богатстве 32-летний мизантроп Юрий Нагибин.
Или вот что записал в дневнике 10 сентября 1976 года Андрей Тарковский: «В ночь на 9-е умер Мао Цзэдун. Пустячок, а приятно» (РГ.21.2.08). И это о смерти человека, который возглавил борьбу великого народа против многовекового рабства хищников Запада и привел к победе… Я подобную запись не мог сделать даже 30 апреля 1945 года, когда мы узнали о самоубийстве Гитлера.
В моем дневнике нет таких записей просто потому, что у меня совсем другие глаза, иная натура, совершенно непохожий склад ума. У осетинского поэта Бориса Муртазова есть стихотворение «Разные глаза». В моем вольном переводе оно выглядит так:
– Мне тошно на московских улицах! -
Сказал один москвич, мой друг. -
Иду – и хочется зажмуриться
От рож каких-то, от пьянчуг!..
Ответил я: – Ничуть не меньше
И у меня хлопот с Москвой:
Такая пропасть милых женщин,
Что так и вертишь головой!
В этом все дело.
Но Чудакову далеко превзошел критик Бенедикт Сарнов. Он уверяет, что иные советские писатели хитроумно нахваливали в дневниках Советскую власть, создавая иллюзию своей лояльности и даже любви к ней. Зачем? А это, говорит, «для глаз будущего следователя». Вдруг, мол, нагрянет ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ и при обыске уж непременно обнаружит дневник, а там – сплошные восторги о Советской власти и здравицы в честь товарища Сталина или раскаяния в своих антисоветских заблуждениях. Ну, и все подозрения тотчас рассыплются в прах. Может, еще и орден или Сталинскую премию дадут хитрецу.
В качестве примера Сарнов называет известного до войны драматурга А. Н. Афиногенова, автора талантливых пьес, в том числе замечательной «Машеньки», по которой в 1942 году был поставлен фильм, тогда же, в дни войны получивший Сталинскую премию. Автор пьесы этого не дождался. Сарнов приводит такую, допустим, запись драматурга: «Нет, все же наше поколение неблагодарно, оно не умеет ценить всех благ, данных ему Революцией. Как часто забываем мы все, от чего избавлены, как часто морщимся и ежимся от мелких неудобств, чьей-то несправедливости, считаем, что живем плохо. А если бы мы представили себе прошлую жизнь, ее ужасы и безысходность, все наши капризы и недовольства рассеялись бы мгновенно, и мы краснели бы от стыда за свою эгоистическую забывчивость… Я всем сердцем люблю новую жизнь!» Критик убежден: это – для Ежова! Он уверен: интеллигентный человек не может любить Советскую власть, не может думать, что в прошлом были ужасы, которых при Советской власти уже нет. Как и о том, что в нынешней России столько ужасов, коих мы не ведали в Советское время.
А Александр Николаевич погиб в 1941 году во время налета немецкой авиации на Москву. Между прочим, это случилось в здании ЦК, на которое упала бомба. Странно, что Сарнов не использовал сей факт для доказательства того, что Афиногенов сознательно выбрал место своей гибели, чтобы еще раз заверить партию и правительство в своей преданности и любви. Странно и то, отчего критик, приведя известные строки из дневника К. Чуковского о том, как они с Пастернаком наперебой восхищались Сталиным, увидев его в президиуме съезда комсомола, не зачислил и это в графу «для будущего следователя», для Ягоды.
В нашей литературе наиболее известны короткие дневниковые записи Пушкина, «Дневник писателя» Достоевского, многолетние с 19 лет до смерти дневники Толстого, короткие записи Чехова… В более позднее, в Советское время – Бунина, Пришвина, Чуковского, «Рабочие тетради» Твардовского, воспоминания Эренбурга, Нагибина, Куняева… В сущности, своего рода дневниками оказались и «Камешки на ладони» Солоухина, и «Затеси» Астафьева, и «Мгновения» Бондарева… Я думаю, что все упомянутые писали дневники не из страха перед Третьим отделением или КГБ и даже не перед самим Сарновым. Так писал и я, не пытаясь создавать никаких иллюзий.
Надо еще заметить, что я начинал дневник, разумеется, безо всякого прицела на публикацию. Ну, кого могли заинтересовать писания двадцатилетнего безвестного солдата? Да я и сам не думал о литераторском будущем, хотя вскоре начал печатать стихи в армейской газете «Разгромим врага». Однако гораздо позже, когда мое имя замелькало, даже можно сказать замельтешило в пресса и встало в определенный литературный ряд, читатели не раз обращались ко мне с предложением или с просьбой написать воспоминания. Так, незнакомый мне В. Андрианов после публикации в «Завтра» моей статьи о поединке на телевидении Г. Зюганова и демократа Л. Гозмана прислал мне по интернету 29 апреля 2011-го года и упрек и призыв: «Владимир Сергеевич! Зачем Вы тратите драгоценные «снаряды» своей публицистической «пушки» на таких ничтожных политворобьев, как Леонид Гозман? А кому интересны бредовые выхлопы ума подельника Горбачева по развалу страны и всего соцлагеря бывшего секретаря ЦК Валентина Фалина или убогой думской функционерши «Едра» Яровой? Их и знать-то никто не знает! А Гозман настолько сер, безлик и тягостен… Двойник Льва Новоженова. Треп этих людей просто смешон и вступать с ними в дискуссию на полном серьезе – это создавать им рекламу. Извините, но для такого автора, как Вы, это мелкотемье».
Я согласен с оценками «этих людей», но согласиться, что понапрасну веду пальбу из пушек по воробьям, не могу. Да, воробьи! И сами по себе они меня совершенно не интересуют, и я не рассчитываю ни устыдить их, ни переубедить. На это, похоже, надеется Геннадий Зюганов. Он то уверяет их, что им будет стыдно за те гнусности, которые они льют на Ленина; то приглашает посетить сайт КПРФ; то говорит: «Перечитайте переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем». Пере-? Да они ее и не читали, скорей всего и не знают о ней, ибо все это их совершенно не интересует, чуждо им и отвратительно.
Да, говорю, это воробьи, но им же предоставлены самые высокие в стране трибуны, их слушают миллионы и они, в сущности, тиражируют не свои собственные «бредовые выхлопы ума», а взгляды, мысли, оценки враждебной народу верховной власти. Они – лишь повод, чтобы ударить по позиции именно антисоветской верхушки. И я вовсе не «дискутирую на полном серьезе». То, что я проделываю с ними называется иначе.
А дальше В. Андрианов пишет: «Мне кажется, Вы должны заняться писанием мемуаров. Интереснейшего материала у Вас уйма. Детство, юность, война, Литинститут, Ваше становление как поэта и писателя, встречи с великими людьми, перестройка, Ваша яростная борьба с разрушителями СССР… Все это было бы чрезвычайно интересно и познавательно.
Большая просьба: отложите в сторону всю текучку, возьмитесь за очень нужное для читателей и для истории русской литературы дело – за воспоминания!»
Недавно Светлана Лакшина даже попросила у меня почитать мои воспоминания – от кого-то слышала, что они уже опубликованы. Увы… Воспоминания – это совсем иной и очень соблазнительный жанр. Но дневник в какой-то мере может заменить воспоминания, а в некотором смысле он даже предпочтительней. Тем более что я буду дневниковые записи сопровождать примечаниями нынешних дней и воспоминаниями.