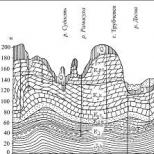Краткое содержание артур конан дойл. Артур конан дойл биография краткая. Анализ рассказа и отзывы
Нет, Веничка не жалуется. Прожив на свете тридцать лет, он считает, что жизнь прекрасна, и, проезжая разные станции, делится обретенной за не столь уж долгий срок мудростью: то занимается исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте, то развертывает перед читателем рецепты восхитительных коктейлей, состоящих из спиртного, разных видов парфюмерии и политуры. Постепенно, все более и более набираясь, он разговаривается с попутчиками, блещет философским складом ума и эрудицией. Затем Веничка рассказывает очередную байку контролеру Семенычу, берущему штрафы за безбилетный проезд граммами спиртного и большому охотнику до разного рода альковных историй, «Шахразада» Веничка - единственный безбилетник, кому удалось ни разу не поднести Семенычу, каждый раз заслушивающемуся его рассказами.
Так продолжается до тех пор, пока Веничке вдруг не начинают грезиться революция в отдельно взятом «Петушинском» районе, пленумы, избрание его, Венички, в президенты, потом отречение от власти и обиженное возвращение в Петушки, которых он никак не может найти. Веничка вроде приходит в себя, но и пассажиры чему-то грязно ухмыляются, на него глядя, то обращаются к нему: «товарищ лейтенант», то вообще непотребно: «сестрица». А за окном тьма, хотя вроде бы должно быть утро и светло. И поезд идет скорее всего не в Петушки, а почему-то в Москву.
Выходит Веничка, к своему искреннему изумлению, и впрямь в Москве, где на перроне сразу подвергается нападению четверых молодчиков. Они бьют его, он пытается убежать. Начинается преследование. И вот он - Кремль, который он так мечтал увидеть, вот она - брусчатка Красной площади, вот памятник Минину и Пожарскому, мимо которого пробегает спасающийся от преследователей герой. И все трагически кончается в неведомом подъезде, где бедного Веничку настигают те четверо и вонзают ему шило в самое горло…
Е. А. Шкловский
Борис Петрович Екимов [р. 1938]
Холюшино подворье
Рассказ (1979)
Славу самого крепкого хозяина на донском хуторе Вихляевском прочно удерживает одноногий бобыль Холюша, по паспорту Варфоломей Вихлянцев, семидесяти лет от роду. Вот и дожил он до того момента, когда дозволили-таки крестьянам, «чтоб всего поболее держали». А то ведь и на хитрости приходилось инвалиду пускаться, лишь бы утаить поголовье скота в подсобном хозяйстве.
Мало кто на хуторе помнил, что прежде жила в этом поместье работящая семья: отец, мать, трое сыновей и дочь. Две большие войны да годы лихолетья разметали их по жизни. Просторный двор некогда обступали базы, сараи, кухни и другие постройки. Жила и плодилась здесь скотина, на зимнем довольстве покоились корова-ведерница с телкой-двухлеткой и полугодовалым бычком, десяток коз да козел Ерема, а с ними шесть овечек. Мирно похрюкивали подсвинки да два десятка гусынь бродили по двору и табунок сытых индюшек с двумя индюками.
В один из крещенских морозов обнаружил Холюша у себя на подворье след одноконных саней. Надежды на участкового-пьяницу никакой. На всякий случай сходил в колхозную контору - дежурная обещала позвонить в районную милицию.
И уж после Холюша спохватился: а все ли добро цело? Оглядел Ощупал Белобокую - должна была котиться; проверил Белоухую - мечтал старик весь козий завод сделать с таким редкостных пухом, как у нее, - с голубым отливом.
Но самой родной из всей животины была Зорька. Шел ей десятый год, и вела она свой род от далекой, легендарной Звезды - праматери удоистых, «едовых» коровок. Годы Зорькины вышли, пора было менять ее, и вот скоро она снова должна была отелиться…
Осмотр места происшествия районная милиция произвела на следующее утро. Растроганный Холюша стал приглашать обоих блюстителей порядка к столу. Один из них будто только и ждал этого. Оказалось, Егор - свояк потерпевшего, муж внучки родной Холюшиной сестры Фетиньи, живущей в городе.
Егора не смутила мерзость запустения Холюшиного жилища, в котором орудуют мышиные орды, не погнушался он отведать под водочку хозяйской яичницы с салом и выслушал немудреный рассказ про житье-бытье: «Кажеденно в работе… Делав да делов. Руки обрываются…» Поразили Егора масштабы Холюшиного хозяйства. Он и жалел старика, и уважение к нему почувствовал. И вдруг его осенило. В городе неподалеку от них домик с огородом продается за пять тысяч, вот бы Холюше туда перебраться да зажить вместе с Фетиньей и ее старшей дочерью, которые бедствуют от притеснений другого зятя.
Милицейский «газик» с гостем укатил, а на Холюшу навалилась еще одна забота - опросталась Белобокая. Уже поздней ночью вспомнил Холюша про Егорове предложение и решил настоять на своем: «Немыслимо глупо бросать такое поместье и идти на чужую сторону. Будем жить вместе здесь!..»
Вечером следующего дня воры снова заявились к Холюше. Когда на его крик подоспели соседи, то обнаружили, что дома у него все перевернуто вверх дном, а сам хозяин распростерт на забазье.
Холюшу лишь оглушило. В доме он очнулся и первым делом оглядел замки на сундуках в горнице. А когда обнаружил пропажу гармошки из красного угла, вновь потерял сознание. Злые языки утверждали, что именно в ней хранил он свою немалую наличность.
Но никакая беда не могла избавить от привычных забот. К утру Холюша еле-еле поднялся. В полдень Егор с напарником были у пострадавшего. Тот отвечал на расспросы, плакался, а вот сколько в гармошке было денег, вспомнить не мог!
Егор переделал все Холюшины дела, а на приглашение переселиться в Вихряевское ответил отказом - у него служба и семья, а здесь ни школы, ни больницы. И Фетинье назад хода нет. Впрочем, если Холюше не хватит на переезд денег, Егор обещал помочь.
Оставшись один, Холюша впервые за многие годы не мог заснуть. Мысли его были о том, что уезжать надо.
Воры остались не пойманы, а визиты Егора участились, домик в райцентре Холюша одобрил и тут же по-хозяйски решил, что на подворье поставит для скотины новые крепкие базы. Егор категорически отверг эти планы: где корову пасти и где сено косить? Старый сад конечно же отберут. Так что вывод один - хозяйство ликвидировать! Пора отдыхать - в домино играть, в карты.
После очередной бессонной Холюшиной ночи переезд стал делом решенным. За дом Холюша заплатил разом. Скотина и птица распродавались «на ура». Перевезли мебель. Приближалась весна и окончательный переезд. Осталось найти покупателя на Зорьку. Новый колхозный агроном приехал торговаться вместе с Егором в тот момент, когда Холюша был явно не в себе.
Вчера в ночь Зорька отелилась. Родилась новая Звезда - «все чисточко при ней, без поднесу!». Предание о прародительнице Зорькиного рода-племени воплотилось в этой телочке.
Какой может быть торг, коли послал Холюше Господь напоследок такое счастье? И разве можно перевозить телочку от такой травы и воды? К тому же еще и Белоухая принесла двух козочек…
Егор глядел на него и не знал, плакать или смеяться.
…Холюша умер в начале апреля. Ткнулся с черного крыльца в землю почернелым лицом. Нашли его вечером. После похорон подворье в одночасье опустело. На хуторе о Холюше иногда вспоминали, редко по-доброму.
А в середине мая колхозный электрик Митька в одной из глубоких песчаных пещерок обнаружил Холюшину гармошку. Она была до отказа набита бумажками. Эго были квитанции-обязательства на поставку государству молока, мяса, масла, яиц, шерсти, картофеля, жив-сырья и пушнины. «Народный коммисариат… Министерство финансов… Государственный банк… на основании постановления… Вы обязаны… Квитанция № 328857 принято от Вихлянцева… в Фонд обороны страны на сумму руб. две тысячи пятьсот… 16 августа 1941 года… 1937… 1939… 1952… 1960… 1975… Вы обязаны сдать молока базисной жирности (3,9 %) 115 литров или масла топленого 4600…»
Митька сжег всю эту «канцелярию», а гармошку закопал - от греха подальше. На хуторе купил он четвертинку и отправился на Холюшино подворье…
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
От станции Степана вез шуряк на стареньком красном «Москвиче». Стекла машины были опущены, и ее насквозь продувало чистым степным духом. Тянулась целина – остро полынной горечью пахло, хлебные поля – чем-то сладковатым. Год выдался добрый, с дождями, и зелень вокруг лежала свежая.
Степан глядел по сторонам, довольно щурился, время от времени глубоко, с причмоком вдыхал вкусный воздух и про себя говорил: «Хорошо… здорово, черт возьми… Хорошо…» Он бы и вслух это сказал, да шуряка стеснялся. Но возле самого хутора, когда по правую сторону открылось поле, облитое желтым, прямо-таки солнечным цветом, Степан не выдержал и, засмеявшись, сказал:
– Здóрово!
– Чего здорово? – спросил шуряк.
– Да вот поле. Красиво. Горчица цветет, что ли… не пойму, – и еще раз повторил: – Красиво.
– За такую красоту, – недобро усмехнулся шуряк, – управляющему голову надо оторвать. Сурепку растит. Сеют просо пополам с сурепкой. Давно надо бы семена сменить.
У ворот материнского дома они остановили машину, посигналили. Но никто не вышел. Дом, казалось, задремал, прикрыв окна ставнями. Да и весь хутор дремал – безлюдный, тихий. Тонкий, вроде бы пчелиный, звон стоял вокруг, петухи перекликались от двора ко двору, чирикали воробьи – и всё. Ни машинного гула, ни человечьего голоса.
Степан приезжал к матери каждое лето, а иногда и в иное время на день-другой заглядывал, но вот к этой тишине привыкнуть никак не мог. Он как-то шалел от нее и даже пугался. Заводская привычка. В цехе, в ночной смене, когда прикорнешь за столом, а цех работает, под этот гул и дремлется хорошо. А если вдруг смолкнет, то вскакиваешь как ошалелый: что-то случилось. И здесь, в хуторе, он иногда ночью или днем, когда засыпал, аж подпрыгивал на кровати, вскакивал испуганный: почему так тихо? А потом облегченно вздыхал, вспоминая, где он.
Дом был не заперт, только цепочка на пробой наброшена. Здесь никогда дома не запирались, лишь при отъезде да если цыгане табором возле хутора становились. А так набросят цепочку, и все.
– Ну давай, – сказал шуряк, – хозяйничай… А я поеду. Может, в воскресенье с бредешком подскочу. Говорят, в Монголовском пруду карасика можно брать. Пока.
Степан послушал, как завелась машина и поехала. Ее рокот становился все тише и тише и наконец смолк, утонул в тишине. Тонко звенели мухи, пчелы; ветер с глухим ропотом набегал на клены, стоящие подле сараев. И всё. Степан разулся, рубаху снял, пошел через двор, покрытый короткой шерсткой гусиной травки, на огороды.
Ячмень, что мать сеяла на сено, пора было косить. Он стоял налитой, тесно стоял, колос к колосу, точно пухлый зеленый ломоть на земле лежал, ветром не шевельнешь. Лишь иногда легкая зыбь бежала по его маковкам.
А за ячменем лежал огород. Впереди картошка. За ней тыквы распускали шершавые свои плети, закрывая землю большими лопушистыми листьями. А над ними покачивались желтоватые зонтики укропа.
Ниже огорода, до самой речки и вдоль нее, тянулся сад, который называли садом больше по старой памяти. Когда-то, еще мать помнит, здесь одной вишни по пятьдесят ведер брали, а уж про яблоки да груши и говорить нечего. Но это когда-то… Правда, еще дед как-то копошился, что-то делал. Да разве одному с такой махиной совладать! А уж помер дед – и конец саду. Деревья стали сохнуть, дичина поперла от корней. Вишенник зарос – не продраться. Вырождались яблони. И вместо «шафрана», «аниса», «доброго крестьянина» падали на землю и гнили, правда, большие, иные чуть не в кулак, кислицы.
А когда появились колхозные сады, то весь хутор свои забросил. Зачем ломать горб, если можно в колхозном взять сколько не лень. Держались за свои сады только из-за сена. Оно всегда здесь, по-над речкой, удавалось хорошее. А нынче и вовсе по пояс трава стояла.
Тропкой вышел Степан на берег. Речонка звалась Паникой. Она была небольшая, а в последнее время, когда начали перехватывать ей горло плотинами то в одном, то в другом месте, Паника и вовсе захирела. Чакан и морковник почти везде ее от берега к берегу стягивали. На омутах только и держалась, на их ключах. Омуты были глубокие. Почти скрытые от солнца обомшелыми густыми вербами, они лежали покойно. Ветер шумел в далеких вершинах, не тревожа черную стеклянную гладь воды. Белого воска лилии дремали на зеленой скатерти листьев. Кувшинки желтели кое-где. А над омутом, над деревьями, над всем этим тихим полуденным миром склонилась такая же чистая, но уже вовсе бездонная голубизна.
Степан прилег на берегу, под ивовым кустом, слушал синицу, звонко тренькавшую в саду, и незаметно уснул. А разбудил его материнский голос:
– Мой сынок, ты чего на земле лежишь? Одеялку бы взял из дому, подстелил. А я тебя ищу-ищу…
Рядом бабка стояла, опершись на клюку.
– Ищем-ищем хозяина, – засмеялась она. – Може, говорим, цыгане его увезли.
Степан поднялся. Мать уже плакала.
– Мой сынок, а его все нет. Хожу к нему, хожу, кричу-кричу, а он не подымается, не откликается…
– Видать, он уже к земле прислонился, – тихим эхом вторила ей бабка.
Прошлой зимой умер отец, и мать все плакала, плакала. Каждый раз, как Степан приезжал, плакала, да и без него, наверное. Плакала – и слез выплакать не могла.
Они не изменились – ни мать, ни бабка. То ли часто он приезжал, а может, уже был в той поре, когда ровесники и старшие будто и не стареют, а лишь молодежь поднимается на глазах. У матери, как всегда по лету, нос обгорел докрасна и облупился. Бабка и сейчас, в начале июня, валяных чуней не снимала.
До самой ночи, до поры, когда спать нужно было идти, они во дворе сидели и все говорили, говорили. На могилку к отцу сходили. Потом гости появились: кум Петро, Алешка с Володей-киномехаником, братья Маркеловы, Иван да Валька, – все свои. Мать, конечно, самогоночки поставила. Просидели допоздна: и песни попели, и разговоры поразговаривали. Но главного Степан матери не сказал. А главным было то, что собирался он на хутор возвращаться. И нынешний его приезд должен был все решить окончательно: о работе, следовательно, поговорить для себя и жены и о прочем.
В доме, в постели, Степан сразу начал погружаться в дрему. Но вдруг звучный шепот заставил его очнуться:
– Помяни, Господи… Помяни, Гос-споди, раба твоего Михаила… – это бабка молилась. – Пошли ему блаженство вечное, бесконечное… Помяни, Гос-споди, раба твоего Ивана…
Бабкина молитва была проста: помяни, Господи… А потом все покойные родичи перечислялись. Память старой женщины уходила с годами, и все труднее и труднее держались в ее голове имена близких. И потому страстный шепот ее: «Раба твоего…» – часто рвался. И бабка замирала, вспоминая.
Степан лежал в темноте, в тишине, лишь за тонкой стеной бабка считала и никак перечесть не могла ушедших от нее дорогих людей. Наконец она, видно, устала и, проговорив истово «Господи помилуй, Господи помилуй…», улеглась спать.
А Степану как-то не по себе стало, чуть жутковато. И от бабкиной молитвы, и от тишины, что в доме стояла и во всем хуторе. Всегда так бывало в первые дни приезда. Все же отвык, отвык он от дома… Считай, после восьмого класса ушел отсюда. Приезжал лишь на каникулы да праздники. А потом армия, техникум, женитьба, завод. Казалось, уже навсегда родной дом остался для него лишь домом родителей, домом далекого детства… Но получалось по-иному.
Главное, конечно, квартира. Жил Степан у жены, вернее, у тещи с тестем. А у них еще одна дочь подрастала. Да Степанова девка. Вшестером жили в двухкомнатной квартире. Пробовали снимать жилье – вышло еще хуже. А своей квартирой что-то не пахло. Всё только одни обещания. В общем, трудновато жили. И как-то, при случае, вдруг пришла в голову мысль. Давно это было, еще в прошлом году, как раз после отцовой смерти. Пришла мысль и не отвязывалась. Ведь в хуторе-то какой домина считай что пустует. Мать и бабка. И тяжеловато им живется, одним-то бабам, без хозяина. А что если переехать? Специальность у него была хорошая – энергетический техникум окончил. К тому же соображал он неплохо в телевизорах, приемниках – в армии приходилось дело иметь. Так что о куске хлеба не беспокоился. Жене тоже можно устроиться в колхозе – экономист. Пусть не сразу, но приискать что-то подходящее. Жилье хорошее, просторное, работа найдется. Чего же еще?..
Жена, как ни странно, согласилась. Сначала вроде в шутку, а потом все серьезнее она говорила: «Поехали… Свежий воздух. По выходным не нужно будет никуда ездить: грибы, ягоды – всё рядом…»
Еще со студенческой поры Ольга любила за город выбираться. Сейчас у них и палатка своя была, и спальные мешки. И по возможности вместе с дочкой они уезжали куда-нибудь. Чаше всего за Волгу. Степан посмеивался над этой страстью, а потом и сам втянулся.
Правда, пугалась Ольга хозяйства. Нет, не обыденной домашней работы. В городе-то она больше всех тянула. Жалела мать за то, что старше, сестру – что моложе. Жалела, и часто за всех управлялась. Побаивалась она животины: коровы, кур и прочего. Но Степан ее утешал: «Не трусь… Мать да бабка тебя пока и не допустят. А потом поглядим…»
Итак, ничего будто и не держало Степана. Но уже второй год он лишь разговоры с женой разговаривал, а решиться не мог. Знал он, знал, что хуже не будет. Живут в деревнях неплохо. А в городе он ничего не терял, не о чем плакать. К заводу, правда, привык, товарищи появились. Но это все наживное. На хуторе-то друзья поближе: с рождения, со школы, родичи, сватья да братья. Но все же он медлил, еще и еще раз прикидывал, потому что дело было серьезнее некуда – жизнь.
И к тому же, даже не признаваясь себе, он, кажется, стыдился своего возвращения. Так уж издавна повелось: в город за долей едут, там и кусок слаще, и рубль длиннее. А вернулся назад – значит, недоумок, не мог счастья поймать. И хоть в нынешнее время все несколько по-иному, но… Степан медлил и прикидывал. И только вот сейчас, в этот приезд, решил рассказать все матери, о работе договориться и, может быть, уже по лету перебраться сюда, на хутор.
Но почему-то об этом сегодня не обмолвился. А такое известие было бы для матери с бабкой ох какой радостью.
Утром Степан проспал долго. Открыл было глаза, поглядел на окна, подумал: «Рано», – и снова заснул. А было-то вовсе не рано. Просто деревья в палисаднике затеняли свет. И когда поднялся и вышел он во двор, уже день стоял ясный, даже с припеком.
Мать, конечно, была на работе, и бабка куда-то ушла. Степан за свежей водой пошел к колонке, а там управляющий, Арсентий, «Жигули» свои новенькие мыл. В закатанных штанах ходил он вокруг машины со шлангом и щеткой.
– А-а, здорово, отпускник, – встретил он Степана. – Косить приехал?
– Косить. А что, травы жалко?
– По нынешнему году не жалко. Все огрузимся. Слушай, Степан, посмотри телевизор, а? Всю неделю ни черта не видно. Полосы какие-то, скачет все. Бабы всю шею проели. Сегодня везти хотел, вот с работы сбежал.
– Началось, – засмеялся Степан. – Сейчас умоюсь, приду.
Это всегда так бывало. На хуторе никто в телевизорах не соображал. И потому приезд Степана всегда был кстати. Шли к нему и шли. Теперь он с собой из города тестер возил, паяльник, кое-какие детальки ходовые. Чтобы не обижать людей, помочь.
К управляющему он сразу пошел, даже завтракать не стал, не хотелось. Арсентий по дому ходил полуголый, белотелый, живот выпустив. Видно, не больно его служба заматывала. И жилье было под стать хозяину: просторный пятистенок с мягкими дорожками, с коврами, с тусклым блеском полированной мебели, с тюлевым водопадом штор от потолка до пола, с тяжелыми кистями бархатных скатертей. Недурно жил управляющий.
А с телевизором все удачно получилось и быстро. Там и дел-то было: конденсатор подпаять да лампу посадить на место. Словом, через полчаса телевизор говорил и показывал как миленький.
Управляющий восхищенно чмокал губами, торжествовал:
– Во! Вот это да! Вот это я понимаю! Ну, спасибо! А то вези нашим чертям из района, так всю душу вымотают. Десять раз будешь ездить. Это за тридцать-то верст.
Степан привык к таким речам, про себя лишь посмеиваясь, как люди в наше время считают чуть ли не колдовством такую обыденную вещь.
Денег с управляющего он, конечно, не взял. Но пришлось остаться позавтракать и бутылку выпить, чтобы Арсентий не обиделся. Управляющий мужиком был неплохим, давно уже в хуторе работал, мать его хвалила.
Выпить решили на свежем воздухе, во дворе. От колбасы, сыра, каких-то консервов из пузатого ЗИЛа Степан решительно отказался.
– Я тоже все это, – махнул рукой управляющий, – не уважаю. Мы по-нашему, по-крестьянски.
И скоро шкворчала на столе яичница, зеленый снопик лука лежал, белея нежными луковками, желтело свежее масло в мисочке.
Выпили по первой, заговорили. О машинах речь зашла.
– А ты не думаешь покупать?
– С каких доходов? – засмеялся Степан.
– Э-э, парень, – крякнул управляющий. – С такой головой… Ну-ка, давай по второй, – он выпил и с удовольствием захрустел белой луковицей. – Говоришь, с каких доходов, – продолжал он. – Ты сейчас любой двор у нас возьми… Ну, кроме тех, где алкаши или лодыри. Возьми любой двор, так если машины нет, значит, она на книжке лежит. Вот так, – лицо Арсентия в улыбке расплылось. – А ты говоришь – доходы. Твои-то годки, гляди: у Михаила Кривошлыкова – «Жигули», у Маркеловых, у обоих, у Ивана – «Москвич», у Вальки – «Запорожец», про Тарасовых и говорить нечего, те самолет купят, не поморщатся. Ну, Алешка… Алексей, тот уже три машины, наверное, пропил. Но мотоцикл все равно имеет. Вот так! Не-ет… Чего зря грешить. Механизаторы у нас живут – хоть раскулачивай. Да и в животноводстве за привесы неплохо получают. Вот так! А с твоей головой… Бросай к черту этот завод. Привози своих, и гарантия… Я тебе гарантию даю: через два года на машине будешь.
Случай был удобный, и Степан, словно не всерьез, сказал:
– Ну приеду, положим. А где работать?
– Здорóво… – покачал головой Арсентий. – Работать… Ты же по электрической части. Видел комплекс? Армяне который делали?
– В прошлом году видел.
– Ну вот, уже монтаж кончаем. Где-то в сентябре пустим. Там по электрике – кричи! – специалист нужен. И механика надо. Сто сорок рублей – пожалуйста.
– Ну а жена где? – все так же со смешком, будто не всерьез, продолжал Степан. – Она – экономист, бухгалтер.
– Да там же, в комплексе, – отвечал Арсентий. – Или учетчицей. Я этого черта все равно прогоню. Пьет, хоть ты его убей… Много ей не будет, а восемьдесят рублей – это тоже деньги. Вот так. И я тебе вот что скажу. Это, парень, раньше все нос воротили – деревня, мол, навоз. В нашем колхозе, я тебе скажу, при наших землях жить можно. И неплохо. От нас люди не вижу чтоб убегали, нет, не вижу. А что там город, культура и прочее! Это, я тебе скажу, ерунда. Может, молодежи и нужны всякие танцы, клубы, а постарше, семейным, в наше время главное – работа. Хорошая работа, получаешь хорошо, с харчами достаток, жильем не обижен – все в порядке. Живи – не тужи. А культура, я гляжу, у всех одинаковая. Брат у меня двоюродный в городе. Катерина, сестра, в районе. Культура у всех одинаковая – телевизор глядеть. Вот и всё.
Так они просидели, пробеседовали до самого полудня. Мать уже корову подоила, когда Степан домой вернулся.
– Ты где, мой сынок, бродишь? – спросила она. – Бабушка вон говорит: спал-спал и пропал.
– Гляну – спит, гляну – спит, – подсмеивалась бабка.
– И-и, Господи, – процеживая молоко, говорила мать, – чего ж им в городе не спать, на всем на готовом? И хлебушка им привезут, и молока, спи себе да спи. Попей, мой сынок, парного, – налила она кружку.
Степан выпил молоко и раздумывал о своем – о том времени скором, когда рано или поздно возиться с коровой будет Ольга. Раздумывая об этом, Степан спросил у матери рассеянно:
– Ты ее три раза доишь?
– А как же, мой сынок! Да пока еще по-божески, сюда гоняют. А вот с той недели придется в обедах на летник бегать. И не доить нельзя. Прямо беда.
– Слушай, – все так же рассеянно, в раздумье сказал Степан, – а если ее продать? В колхозе можно молоко покупать или у соседей. Много ли нам надо!
Мать остолбенела. Мгновение-другое она ничего не могла вымолвить, лишь глядела на сына, помаргивая короткими светлыми ресничками, белые выгоревшие брови ее поднялись вверх, густо заморщинив лоб. Наконец она опомнилась.
– Ты, мой сынок, либо сдурел! Эдакую корову переводить! Нарекет еще… Господи, не слухай его, – плаксиво прибавила она. – Да такой ядовой коровы, как наша Марта, на всем хуторе нет. Скажи ему, мама, скажи…
– Уж ядовая-а-а… Как пригонют, другие на баз, а наша никак не наистся. Всю ночь готова ходить.
– Да на нашу Марту все завидуют! Все мне говорят: хоть бы она телочку принесла! И на такую золоту у тебя, мой сынок, язык поворачивается!
– Ладно, ладно, не шуми. Золото, золото… Руки скоро не будут владать от этого золота. А то бы брала молоко в колхозе и горя не знала.
– Ага, – покивала головой мать, – счас, растопорься, много тебе вольют. Школьникам, в интернат, и то отказывают. Все государству – и никаких.
– Ну, у людей бери…
– Ты, мой сыночек, либо переспал иль со вчерашнего не очунел… Значит, пресного надо попить – беги. Кислого захочешь – снова к добрым людям. Вареничков сготовить или блинцов испечь… А иде маслице, сметанка иде, каймачок, творожок? Опять подайте, люди добрые! Иряну захочешь – и того Христа ради надо просить. Так уж… – махнула она рукой. – Плетешь, не знаю чего. Об деле бы подумал. Завтра зачнем косить. Такую страсть божию нам предстоит одолеть. Мама, ты на сад ходила?
– Ходила, глядела. И на обережье была. Аржанец зачал цвесть. Старые люди на эту пору, бывало, говорили: счас пуд сена – что пуд меду.
– Значит, завтра с богом… Пойду хоть чуток прилягу, – сказала мать. – Скоро сбираться.
А Степан у бабки спросил:
– Не слыхала, бабушка, грибы пошли?
– Какие сейчас грибы… Одни змеиные. Добрым-то рано.
– Схожу все же, промнусь.
Грибы водились за рекой. Прямо от берега шел осинник с топольками, место сыроватое, сплошь заполоненное колючим ежевичником. Но чуть далее, к опушке, в дубках, водились белые, сыроежки, дубовики. Но появлялись они по лету не вдруг, а лишь к июлю-августу. Степан здесь и искать не стал, пошел без задержки.
Крапива нынче удалась, у речки стояла по обе стороны тропы прямо-таки заставой богатырской. Да и все удалось в нынешнем добром году. Подорожник во всю ширь дороги зелено стлался чуть не лопушиными листьями. Фиолетовое войско шалфея толпилось на опушке, возле тернов. А уж в степи…
В степи нынче было славно. Первые два колка, осины с дубками, Степан пропустил и пошел к большому, березовому. И вдруг, поднявшись на пригорок, он остановился: ложбина, лежащая перед ним, была залита ясным желтым светом. Это заросли донника недвижно стояли, покоя на сочных стеблях светлую желтизну сережек. Это молочайник, досыта напоенный, нынче радовал глаз зеленовато-желтыми, свежими веточками.
В ложбине, в полном безветрии, дурманил голову горячий дух медового настоя. Пчелы, шмели, мухи гудели меж цветов лениво и сыто, словно нехотя.
Оставив мысль о грибах, Степан шел по степи, и везде было хорошо. Гвозди́ки стояли, каждая величиной в пятак; да не по одной, а тяжелым букетом, по шесть-семь цветков на тонкой упругой ножке. Местами, полонив землю, табунились они полянами, а где и вразброс, брызгами рдели меж солнечной желтизны донника или над медуницами качались, длинноногие.
Давно, а может быть, никогда, а может, забыл уже Степан эти места в такой вот красе… А может, не приглядывался раньше… Да нет, бросилось бы в глаза! Просто год, наверное, был нынче особенный, щедрый на дожди и тепло. И потому все так взыграло, поперло из земли! Вот чабрец как цветет… Прямо в ноготь каждый цветок!
Наконец Степан устал. Возле одного из колков, чуть на отшибе, три березы стояли. В их тени, на ветерке, чтобы комаров не кормить, он и уселся, прислонясь к березовому стволу. «Вот бы девок моих сюда, – думал он. – Вот бы радости – что у большой, что у малой. Крику, визгу, охов всяких. Букетов набрали, венков бы наплели. Да хоть бы воздухом таким подышали…»
Степан дочку редко сюда привозил. В дороге ее мучить не хотелось. А с собой, на весь отпуск, брать нельзя. Глядеть за ней некому: бабка старая, сама еле ходит, мать на работе, а у него то сенокос, то другие заботы.
Степан прикрыл глаза. Он слышал, как трепещет под ветром березовая листва, как тонко звенит рядом какая-то малая крылатая тварь, как долдонит пустушка. Он видел, с закрытыми глазами видел и густую березовую зелень, и ясную бель ствола, и пустушку видел, удода, как он пестрым хохолом своим кивает и кивает словно заведенный. «Надо быстрей переезжать, – подумал Степан. – Нечего тянуть. Откошусь – и переезжать. Пусть хоть лето поглядят. За грибами походят. Покупаются. Нечего тянуть».
От станции Степана вез шуряк на стареньком красном «Москвиче». Стекла машины были опущены, и ее насквозь продувало чистым степным духом. Тянулась целина – остро полынной горечью пахло, хлебные поля – чем-то сладковатым. Год выдался добрый, с дождями, и зелень вокруг лежала свежая.
Степан глядел по сторонам, довольно щурился, время от времени глубоко, с причмоком вдыхал вкусный воздух и про себя говорил: «Хорошо… здорово, черт возьми… Хорошо…» Он бы и вслух это сказал, да шуряка стеснялся. Но возле самого хутора, когда по правую сторону открылось поле, облитое желтым, прямо-таки солнечным цветом, Степан не выдержал и, засмеявшись, сказал:
– Здóрово!
– Чего здорово? – спросил шуряк.
– Да вот поле. Красиво. Горчица цветет, что ли… не пойму, – и еще раз повторил: – Красиво.
– За такую красоту, – недобро усмехнулся шуряк, – управляющему голову надо оторвать. Сурепку растит. Сеют просо пополам с сурепкой. Давно надо бы семена сменить.
У ворот материнского дома они остановили машину, посигналили. Но никто не вышел. Дом, казалось, задремал, прикрыв окна ставнями. Да и весь хутор дремал – безлюдный, тихий. Тонкий, вроде бы пчелиный, звон стоял вокруг, петухи перекликались от двора ко двору, чирикали воробьи – и всё. Ни машинного гула, ни человечьего голоса.
Степан приезжал к матери каждое лето, а иногда и в иное время на день-другой заглядывал, но вот к этой тишине привыкнуть никак не мог. Он как-то шалел от нее и даже пугался. Заводская привычка. В цехе, в ночной смене, когда прикорнешь за столом, а цех работает, под этот гул и дремлется хорошо. А если вдруг смолкнет, то вскакиваешь как ошалелый: что-то случилось. И здесь, в хуторе, он иногда ночью или днем, когда засыпал, аж подпрыгивал на кровати, вскакивал испуганный: почему так тихо? А потом облегченно вздыхал, вспоминая, где он.
Дом был не заперт, только цепочка на пробой наброшена. Здесь никогда дома не запирались, лишь при отъезде да если цыгане табором возле хутора становились. А так набросят цепочку, и все.
– Ну давай, – сказал шуряк, – хозяйничай… А я поеду. Может, в воскресенье с бредешком подскочу. Говорят, в Монголовском пруду карасика можно брать. Пока.
Степан послушал, как завелась машина и поехала. Ее рокот становился все тише и тише и наконец смолк, утонул в тишине. Тонко звенели мухи, пчелы; ветер с глухим ропотом набегал на клены, стоящие подле сараев. И всё. Степан разулся, рубаху снял, пошел через двор, покрытый короткой шерсткой гусиной травки, на огороды.
Ячмень, что мать сеяла на сено, пора было косить. Он стоял налитой, тесно стоял, колос к колосу, точно пухлый зеленый ломоть на земле лежал, ветром не шевельнешь. Лишь иногда легкая зыбь бежала по его маковкам.
А за ячменем лежал огород. Впереди картошка. За ней тыквы распускали шершавые свои плети, закрывая землю большими лопушистыми листьями. А над ними покачивались желтоватые зонтики укропа.
Ниже огорода, до самой речки и вдоль нее, тянулся сад, который называли садом больше по старой памяти. Когда-то, еще мать помнит, здесь одной вишни по пятьдесят ведер брали, а уж про яблоки да груши и говорить нечего. Но это когда-то… Правда, еще дед как-то копошился, что-то делал. Да разве одному с такой махиной совладать! А уж помер дед – и конец саду. Деревья стали сохнуть, дичина поперла от корней. Вишенник зарос – не продраться. Вырождались яблони. И вместо «шафрана», «аниса», «доброго крестьянина» падали на землю и гнили, правда, большие, иные чуть не в кулак, кислицы.
А когда появились колхозные сады, то весь хутор свои забросил. Зачем ломать горб, если можно в колхозном взять сколько не лень. Держались за свои сады только из-за сена. Оно всегда здесь, по-над речкой, удавалось хорошее. А нынче и вовсе по пояс трава стояла.
Тропкой вышел Степан на берег. Речонка звалась Паникой. Она была небольшая, а в последнее время, когда начали перехватывать ей горло плотинами то в одном, то в другом месте, Паника и вовсе захирела. Чакан и морковник почти везде ее от берега к берегу стягивали. На омутах только и держалась, на их ключах. Омуты были глубокие. Почти скрытые от солнца обомшелыми густыми вербами, они лежали покойно. Ветер шумел в далеких вершинах, не тревожа черную стеклянную гладь воды. Белого воска лилии дремали на зеленой скатерти листьев. Кувшинки желтели кое-где. А над омутом, над деревьями, над всем этим тихим полуденным миром склонилась такая же чистая, но уже вовсе бездонная голубизна.
Степан прилег на берегу, под ивовым кустом, слушал синицу, звонко тренькавшую в саду, и незаметно уснул. А разбудил его материнский голос:
– Мой сынок, ты чего на земле лежишь? Одеялку бы взял из дому, подстелил. А я тебя ищу-ищу…
Рядом бабка стояла, опершись на клюку.
– Ищем-ищем хозяина, – засмеялась она. – Може, говорим, цыгане его увезли.
Степан поднялся. Мать уже плакала.
– Мой сынок, а его все нет. Хожу к нему, хожу, кричу-кричу, а он не подымается, не откликается…
– Видать, он уже к земле прислонился, – тихим эхом вторила ей бабка.
Прошлой зимой умер отец, и мать все плакала, плакала. Каждый раз, как Степан приезжал, плакала, да и без него, наверное. Плакала – и слез выплакать не могла.
Они не изменились – ни мать, ни бабка. То ли часто он приезжал, а может, уже был в той поре, когда ровесники и старшие будто и не стареют, а лишь молодежь поднимается на глазах. У матери, как всегда по лету, нос обгорел докрасна и облупился. Бабка и сейчас, в начале июня, валяных чуней не снимала.
До самой ночи, до поры, когда спать нужно было идти, они во дворе сидели и все говорили, говорили. На могилку к отцу сходили. Потом гости появились: кум Петро, Алешка с Володей-киномехаником, братья Маркеловы, Иван да Валька, – все свои. Мать, конечно, самогоночки поставила. Просидели допоздна: и песни попели, и разговоры поразговаривали. Но главного Степан матери не сказал. А главным было то, что собирался он на хутор возвращаться. И нынешний его приезд должен был все решить окончательно: о работе, следовательно, поговорить для себя и жены и о прочем.
В доме, в постели, Степан сразу начал погружаться в дрему. Но вдруг звучный шепот заставил его очнуться:
– Помяни, Господи… Помяни, Гос-споди, раба твоего Михаила… – это бабка молилась. – Пошли ему блаженство вечное, бесконечное… Помяни, Гос-споди, раба твоего Ивана…
Бабкина молитва была проста: помяни, Господи… А потом все покойные родичи перечислялись. Память старой женщины уходила с годами, и все труднее и труднее держались в ее голове имена близких. И потому страстный шепот ее: «Раба твоего…» – часто рвался. И бабка замирала, вспоминая.
Степан лежал в темноте, в тишине, лишь за тонкой стеной бабка считала и никак перечесть не могла ушедших от нее дорогих людей. Наконец она, видно, устала и, проговорив истово «Господи помилуй, Господи помилуй…», улеглась спать.
А Степану как-то не по себе стало, чуть жутковато. И от бабкиной молитвы, и от тишины, что в доме стояла и во всем хуторе. Всегда так бывало в первые дни приезда. Все же отвык, отвык он от дома… Считай, после восьмого класса ушел отсюда. Приезжал лишь на каникулы да праздники. А потом армия, техникум, женитьба, завод. Казалось, уже навсегда родной дом остался для него лишь домом родителей, домом далекого детства… Но получалось по-иному.
Главное, конечно, квартира. Жил Степан у жены, вернее, у тещи с тестем. А у них еще одна дочь подрастала. Да Степанова девка. Вшестером жили в двухкомнатной квартире. Пробовали снимать жилье – вышло еще хуже. А своей квартирой что-то не пахло. Всё только одни обещания. В общем, трудновато жили. И как-то, при случае, вдруг пришла в голову мысль. Давно это было, еще в прошлом году, как раз после отцовой смерти. Пришла мысль и не отвязывалась. Ведь в хуторе-то какой домина считай что пустует. Мать и бабка. И тяжеловато им живется, одним-то бабам, без хозяина. А что если переехать? Специальность у него была хорошая – энергетический техникум окончил. К тому же соображал он неплохо в телевизорах, приемниках – в армии приходилось дело иметь. Так что о куске хлеба не беспокоился. Жене тоже можно устроиться в колхозе – экономист. Пусть не сразу, но приискать что-то подходящее. Жилье хорошее, просторное, работа найдется. Чего же еще?..
Жена, как ни странно, согласилась. Сначала вроде в шутку, а потом все серьезнее она говорила: «Поехали… Свежий воздух. По выходным не нужно будет никуда ездить: грибы, ягоды – всё рядом…»
Еще со студенческой поры Ольга любила за город выбираться. Сейчас у них и палатка своя была, и спальные мешки. И по возможности вместе с дочкой они уезжали куда-нибудь. Чаше всего за Волгу. Степан посмеивался над этой страстью, а потом и сам втянулся.
Правда, пугалась Ольга хозяйства. Нет, не обыденной домашней работы. В городе-то она больше всех тянула. Жалела мать за то, что старше, сестру – что моложе. Жалела, и часто за всех управлялась. Побаивалась она животины: коровы, кур и прочего. Но Степан ее утешал: «Не трусь… Мать да бабка тебя пока и не допустят. А потом поглядим…»
Итак, ничего будто и не держало Степана. Но уже второй год он лишь разговоры с женой разговаривал, а решиться не мог. Знал он, знал, что хуже не будет. Живут в деревнях неплохо. А в городе он ничего не терял, не о чем плакать. К заводу, правда, привык, товарищи появились. Но это все наживное. На хуторе-то друзья поближе: с рождения, со школы, родичи, сватья да братья. Но все же он медлил, еще и еще раз прикидывал, потому что дело было серьезнее некуда – жизнь.
И к тому же, даже не признаваясь себе, он, кажется, стыдился своего возвращения. Так уж издавна повелось: в город за долей едут, там и кусок слаще, и рубль длиннее. А вернулся назад – значит, недоумок, не мог счастья поймать. И хоть в нынешнее время все несколько по-иному, но… Степан медлил и прикидывал. И только вот сейчас, в этот приезд, решил рассказать все матери, о работе договориться и, может быть, уже по лету перебраться сюда, на хутор.
Но почему-то об этом сегодня не обмолвился. А такое известие было бы для матери с бабкой ох какой радостью.
Утром Степан проспал долго. Открыл было глаза, поглядел на окна, подумал: «Рано», – и снова заснул. А было-то вовсе не рано. Просто деревья в палисаднике затеняли свет. И когда поднялся и вышел он во двор, уже день стоял ясный, даже с припеком.
Мать, конечно, была на работе, и бабка куда-то ушла. Степан за свежей водой пошел к колонке, а там управляющий, Арсентий, «Жигули» свои новенькие мыл. В закатанных штанах ходил он вокруг машины со шлангом и щеткой.
– А-а, здорово, отпускник, – встретил он Степана. – Косить приехал?
– Косить. А что, травы жалко?
– По нынешнему году не жалко. Все огрузимся. Слушай, Степан, посмотри телевизор, а? Всю неделю ни черта не видно. Полосы какие-то, скачет все. Бабы всю шею проели. Сегодня везти хотел, вот с работы сбежал.
– Началось, – засмеялся Степан. – Сейчас умоюсь, приду.
Это всегда так бывало. На хуторе никто в телевизорах не соображал. И потому приезд Степана всегда был кстати. Шли к нему и шли. Теперь он с собой из города тестер возил, паяльник, кое-какие детальки ходовые. Чтобы не обижать людей, помочь.
К управляющему он сразу пошел, даже завтракать не стал, не хотелось. Арсентий по дому ходил полуголый, белотелый, живот выпустив. Видно, не больно его служба заматывала. И жилье было под стать хозяину: просторный пятистенок с мягкими дорожками, с коврами, с тусклым блеском полированной мебели, с тюлевым водопадом штор от потолка до пола, с тяжелыми кистями бархатных скатертей. Недурно жил управляющий.
А с телевизором все удачно получилось и быстро. Там и дел-то было: конденсатор подпаять да лампу посадить на место. Словом, через полчаса телевизор говорил и показывал как миленький.
Управляющий восхищенно чмокал губами, торжествовал:
– Во! Вот это да! Вот это я понимаю! Ну, спасибо! А то вези нашим чертям из района, так всю душу вымотают. Десять раз будешь ездить. Это за тридцать-то верст.
Степан привык к таким речам, про себя лишь посмеиваясь, как люди в наше время считают чуть ли не колдовством такую обыденную вещь.
Денег с управляющего он, конечно, не взял. Но пришлось остаться позавтракать и бутылку выпить, чтобы Арсентий не обиделся. Управляющий мужиком был неплохим, давно уже в хуторе работал, мать его хвалила.
Выпить решили на свежем воздухе, во дворе. От колбасы, сыра, каких-то консервов из пузатого ЗИЛа Степан решительно отказался.
– Я тоже все это, – махнул рукой управляющий, – не уважаю. Мы по-нашему, по-крестьянски.
И скоро шкворчала на столе яичница, зеленый снопик лука лежал, белея нежными луковками, желтело свежее масло в мисочке.
Выпили по первой, заговорили. О машинах речь зашла.
– А ты не думаешь покупать?
– С каких доходов? – засмеялся Степан.
– Э-э, парень, – крякнул управляющий. – С такой головой… Ну-ка, давай по второй, – он выпил и с удовольствием захрустел белой луковицей. – Говоришь, с каких доходов, – продолжал он. – Ты сейчас любой двор у нас возьми… Ну, кроме тех, где алкаши или лодыри. Возьми любой двор, так если машины нет, значит, она на книжке лежит. Вот так, – лицо Арсентия в улыбке расплылось. – А ты говоришь – доходы. Твои-то годки, гляди: у Михаила Кривошлыкова – «Жигули», у Маркеловых, у обоих, у Ивана – «Москвич», у Вальки – «Запорожец», про Тарасовых и говорить нечего, те самолет купят, не поморщатся. Ну, Алешка… Алексей, тот уже три машины, наверное, пропил. Но мотоцикл все равно имеет. Вот так! Не-ет… Чего зря грешить. Механизаторы у нас живут – хоть раскулачивай. Да и в животноводстве за привесы неплохо получают. Вот так! А с твоей головой… Бросай к черту этот завод. Привози своих, и гарантия… Я тебе гарантию даю: через два года на машине будешь.
Случай был удобный, и Степан, словно не всерьез, сказал:
– Ну приеду, положим. А где работать?
– Здорóво… – покачал головой Арсентий. – Работать… Ты же по электрической части. Видел комплекс? Армяне который делали?
– В прошлом году видел.
– Ну вот, уже монтаж кончаем. Где-то в сентябре пустим. Там по электрике – кричи! – специалист нужен. И механика надо. Сто сорок рублей – пожалуйста.
– Ну а жена где? – все так же со смешком, будто не всерьез, продолжал Степан. – Она – экономист, бухгалтер.
– Да там же, в комплексе, – отвечал Арсентий. – Или учетчицей. Я этого черта все равно прогоню. Пьет, хоть ты его убей… Много ей не будет, а восемьдесят рублей – это тоже деньги. Вот так. И я тебе вот что скажу. Это, парень, раньше все нос воротили – деревня, мол, навоз. В нашем колхозе, я тебе скажу, при наших землях жить можно. И неплохо. От нас люди не вижу чтоб убегали, нет, не вижу. А что там город, культура и прочее! Это, я тебе скажу, ерунда. Может, молодежи и нужны всякие танцы, клубы, а постарше, семейным, в наше время главное – работа. Хорошая работа, получаешь хорошо, с харчами достаток, жильем не обижен – все в порядке. Живи – не тужи. А культура, я гляжу, у всех одинаковая. Брат у меня двоюродный в городе. Катерина, сестра, в районе. Культура у всех одинаковая – телевизор глядеть. Вот и всё.
Так они просидели, пробеседовали до самого полудня. Мать уже корову подоила, когда Степан домой вернулся.
– Ты где, мой сынок, бродишь? – спросила она. – Бабушка вон говорит: спал-спал и пропал.
– Гляну – спит, гляну – спит, – подсмеивалась бабка.
– И-и, Господи, – процеживая молоко, говорила мать, – чего ж им в городе не спать, на всем на готовом? И хлебушка им привезут, и молока, спи себе да спи. Попей, мой сынок, парного, – налила она кружку.
Степан выпил молоко и раздумывал о своем – о том времени скором, когда рано или поздно возиться с коровой будет Ольга. Раздумывая об этом, Степан спросил у матери рассеянно:
– Ты ее три раза доишь?
– А как же, мой сынок! Да пока еще по-божески, сюда гоняют. А вот с той недели придется в обедах на летник бегать. И не доить нельзя. Прямо беда.
– Слушай, – все так же рассеянно, в раздумье сказал Степан, – а если ее продать? В колхозе можно молоко покупать или у соседей. Много ли нам надо!
Мать остолбенела. Мгновение-другое она ничего не могла вымолвить, лишь глядела на сына, помаргивая короткими светлыми ресничками, белые выгоревшие брови ее поднялись вверх, густо заморщинив лоб. Наконец она опомнилась.
– Ты, мой сынок, либо сдурел! Эдакую корову переводить! Нарекет еще… Господи, не слухай его, – плаксиво прибавила она. – Да такой ядовой коровы, как наша Марта, на всем хуторе нет. Скажи ему, мама, скажи…
– Уж ядовая-а-а… Как пригонют, другие на баз, а наша никак не наистся. Всю ночь готова ходить.
– Да на нашу Марту все завидуют! Все мне говорят: хоть бы она телочку принесла! И на такую золоту у тебя, мой сынок, язык поворачивается!
– Ладно, ладно, не шуми. Золото, золото… Руки скоро не будут владать от этого золота. А то бы брала молоко в колхозе и горя не знала.
– Ага, – покивала головой мать, – счас, растопорься, много тебе вольют. Школьникам, в интернат, и то отказывают. Все государству – и никаких.
– Ну, у людей бери…
– Ты, мой сыночек, либо переспал иль со вчерашнего не очунел… Значит, пресного надо попить – беги. Кислого захочешь – снова к добрым людям. Вареничков сготовить или блинцов испечь… А иде маслице, сметанка иде, каймачок, творожок? Опять подайте, люди добрые! Иряну захочешь – и того Христа ради надо просить. Так уж… – махнула она рукой. – Плетешь, не знаю чего. Об деле бы подумал. Завтра зачнем косить. Такую страсть божию нам предстоит одолеть. Мама, ты на сад ходила?
– Ходила, глядела. И на обережье была. Аржанец зачал цвесть. Старые люди на эту пору, бывало, говорили: счас пуд сена – что пуд меду.
– Значит, завтра с богом… Пойду хоть чуток прилягу, – сказала мать. – Скоро сбираться.
А Степан у бабки спросил:
– Не слыхала, бабушка, грибы пошли?
– Какие сейчас грибы… Одни змеиные. Добрым-то рано.
– Схожу все же, промнусь.
Грибы водились за рекой. Прямо от берега шел осинник с топольками, место сыроватое, сплошь заполоненное колючим ежевичником. Но чуть далее, к опушке, в дубках, водились белые, сыроежки, дубовики. Но появлялись они по лету не вдруг, а лишь к июлю-августу. Степан здесь и искать не стал, пошел без задержки.
Крапива нынче удалась, у речки стояла по обе стороны тропы прямо-таки заставой богатырской. Да и все удалось в нынешнем добром году. Подорожник во всю ширь дороги зелено стлался чуть не лопушиными листьями. Фиолетовое войско шалфея толпилось на опушке, возле тернов. А уж в степи…
В степи нынче было славно. Первые два колка, осины с дубками, Степан пропустил и пошел к большому, березовому. И вдруг, поднявшись на пригорок, он остановился: ложбина, лежащая перед ним, была залита ясным желтым светом. Это заросли донника недвижно стояли, покоя на сочных стеблях светлую желтизну сережек. Это молочайник, досыта напоенный, нынче радовал глаз зеленовато-желтыми, свежими веточками.
В ложбине, в полном безветрии, дурманил голову горячий дух медового настоя. Пчелы, шмели, мухи гудели меж цветов лениво и сыто, словно нехотя.
Оставив мысль о грибах, Степан шел по степи, и везде было хорошо. Гвозди́ки стояли, каждая величиной в пятак; да не по одной, а тяжелым букетом, по шесть-семь цветков на тонкой упругой ножке. Местами, полонив землю, табунились они полянами, а где и вразброс, брызгами рдели меж солнечной желтизны донника или над медуницами качались, длинноногие.
Давно, а может быть, никогда, а может, забыл уже Степан эти места в такой вот красе… А может, не приглядывался раньше… Да нет, бросилось бы в глаза! Просто год, наверное, был нынче особенный, щедрый на дожди и тепло. И потому все так взыграло, поперло из земли! Вот чабрец как цветет… Прямо в ноготь каждый цветок!
Наконец Степан устал. Возле одного из колков, чуть на отшибе, три березы стояли. В их тени, на ветерке, чтобы комаров не кормить, он и уселся, прислонясь к березовому стволу. «Вот бы девок моих сюда, – думал он. – Вот бы радости – что у большой, что у малой. Крику, визгу, охов всяких. Букетов набрали, венков бы наплели. Да хоть бы воздухом таким подышали…»
Степан дочку редко сюда привозил. В дороге ее мучить не хотелось. А с собой, на весь отпуск, брать нельзя. Глядеть за ней некому: бабка старая, сама еле ходит, мать на работе, а у него то сенокос, то другие заботы.
Степан прикрыл глаза. Он слышал, как трепещет под ветром березовая листва, как тонко звенит рядом какая-то малая крылатая тварь, как долдонит пустушка. Он видел, с закрытыми глазами видел и густую березовую зелень, и ясную бель ствола, и пустушку видел, удода, как он пестрым хохолом своим кивает и кивает словно заведенный. «Надо быстрей переезжать, – подумал Степан. – Нечего тянуть. Откошусь – и переезжать. Пусть хоть лето поглядят. За грибами походят. Покупаются. Нечего тянуть».
Мать с бабкой часто вспоминали, как любил косьбу дед Колюша. Славно при нем кашивали. В восемь кос, бывало, становились, загодя готовили иряну да квасу побольше. Рядок-другой пройдут, дед Колюша командует: «Садитесь, детки, отдыхайте. Покурите, детки, кваску испейте». Еще пару рядов, и снова отдых. За два дня управлялись.
Степан этой веселой косьбы уже не застал. Обычно вдвоем с покойным отцом им приходилось работать. Иногда мать помогала. А сенá были все те же, на садах, на обережье, а в сухие лета и на стороне прихватывали. И упираться нужно было вовсю. Час косить, десять минут перекур – таков был жесткий распорядок, установленный отцом. Коса, правда, у отца была больше, вел он ряд шире, косить умел. В три дня траву укладывали. Когда служил Степан да учился, отец с матерью косили. Иногда сестер мужья помогали.
Нынче же надеяться было не на кого. Матери «выходá» нужно зарабатывать в колхозе, чтобы без зерна не остаться.
Вечером пришел кум Петро, косы отбил. По всем дворам на хуторе глухо колотили. А мать зудела не переставая:
– Мой сыночек, ты гляди не спеши. Ты лучше помене, но все до травочки выбирай. Пятку не боись опускать, по земе ее, по земе. Ну-ка, ну-ка, вот здесь, во дворе, пройдись по гусынке, я погляжу…
Степан несколько раз косой махнул.
– Высоко берешь, мой сынок! Так ты всю траву погубишь. Ну, чего ж делать?! Либо на работу не ходить?!
Мать, озабоченная до слез, бегала вокруг Степана, жалко пошмыгивала носом. Суматошилась, словно клушка.
– Мама! Мама! – кидалась она к матери. – Ты завтра иди за ним и гляди, показывай, учи его. А ты слухайся, а не мотай головой! Счас вот покажи ему, мама, как точить косу. Ты, бывало, деду Колюше точила. Он всегда хвалил.
– Гос-споди! – не выдержал Степан. – Ты чего с ума-то сходишь? Чего, я косу не держал в руках?
– И-и, – махнула рукой мать, – косари! В том году зятёчки приехали помогать, всю траву загубили. Был бы живой отец, – вздохнула она, – да я бы разве… Он сам бы делал и за тобой приглядел. Такой был мастеровитый. И косьё по руке наладит, отобьет. Лучше наших кос на хуторе не было. За что же Господь… – всхлипнула она. И кончилось все это, конечно, слезами.
Хорошо было на нынешнюю траву глядеть: и зелена, и высока, и густа. А вот бралась она тяжелехонько. Когда-то по саду и обережью чистый аржанец стоял. Теперь же он почти везде выродился, помешался с люцерной, донником, со свистухой, полынком; у плетней да меж дерев лопухи лезли, крапива, чистотел. В общем, всякой твари по паре. А тут еще вьюнок густо оплел это и без того тяжелое разнотравье. И потому косилось нелегко. Сначала Степан по-отцовски хотел работать: перекур через час. Но уже на первых, коротеньких рядах пóтом облился. Сердце колотилось гулко. И все более вязкой, тяжелой казалась ему трава. С силой тянул он косу, а добив ряд, останавливался, дышал с сипом и не мог продышаться. И с тоской, даже с каким-то ужасом глядел он после каждого ряда вокруг и охал в душе, оттого что вся работа была впереди, и не верил, что сможет ее сделать. Ни в первый день не верил, ни на другой.
Мать прибегала и в перерыв, и после работы и за косу бралась. Но прежде обходила, проглядывала скошенное и на Степана напускалась:
– Мой сынок, под деревами надо чище выбирать, все до травочки.
– Да там же не пролезешь и с косой не повернешься.
– А вот матари придется пролезть, – с нарочитой кротостью говорила мать. – Кто же за нее будет делать…
И она действительно пролезала в самые гиблые, заросшие вишенной, терновой и яблоневой дичиной места, по канавам косила.
– Мой сынок! – кричала она в другой раз. – Гляди, трава-то стоит! Пробежал рысью. Загубил траву, да и всё! – всплескивала она руками.
– Да там же одна свистуха…
– Во! – с растерянностью разводила руками мать. – Во мы какие богатенькие. Свистуха нам не нужна.
– Ну, попробуй ее возьми, – начинал злиться Степан. – Там бугор. Она перестоялась.
– Матаря все возьмет, – все с той же нарочитой кротостью отвечала мать. – Матаре не на кого надеяться. Не лениться, косу точить надо почаще, мой сынок, вот и все.
Она долго и старательно водила бруском по жалу, точила. Но эта трава на бугре и вправду перестояла. Вжикала она под косой со свистом, но осталась целой, лишь маковку потеряв. Потому и звали эту траву свистухой.
Степан молча глядел. Мать уже сплеча била проклятую свистуху. Но та лишь кланялась косе, да и только.
– Отец-то всегда этот бугор пораньше выкашивал, – сказала наконец мать, сдаваясь, – по-хозяйски делал. А без хозяина все гибнет, – вздохнула она тяжело.
– Ладно, мама, – успокоил ее Степан. – Сена в этом году много.
– Да тебе все ладно, – отвернулась мать. – Рази тебе жалко… У тебя в городе всего много.
Ругаться с матерью не хотелось. Но и слушать ее было тошно. Хоть и знал Степан, что мать всю жизнь такая бурчливая, а после смерти отца ей вовсе несладко, понимал он все это, но в душе все же досадовал.
А на другой день, к вечеру, случилась неприятная история. В обед на обережье мать прокосила межу, там где их земля с соседом Аникеем граничила. Мать, видно, нетвердо эту границу знала, потому что загодя они с бабкой много об этом говорили. Про какие-то канавки вспоминали, тропки и вязки, от которых наискось нужно брать. И вот в обед мать прокосила эту межу (Степан на нее и глядеть не ходил), а к вечеру пришел Аникуша.
– Чего ты, дядя Аникей? – еще издали спросил его Степан недоуменно.
– Не знаешь! Да! Ворюги! Все не нахапаетесь! – страшным было черное от поступившей крови лицо Аникея; на губах, в уголках рта белели комочки пены. – Последнюю траву отымаете! Я за каждой травиночкой по лесу бегаю! Добываю!..
Степан, кажется, понял, в чем дело, но все же спросил:
– Не кричи, дядя Аникей… Скажи, чего шумишь?
– Пошли! – зло бросил Аникей и зашагал вперед, маленький, сухой, кривоногий. – Пошли, я тебя мордой ткну! Не знает! – не переставал он ругаться. – Весь в свою породу! А еще городской! Приехал обкрадывать!
Степанова догадка была верной: мать закосила у Аникуши землю. От вязков, Степан смутно помнил по прошлым годам, почти напрямую шла межа к старой вербине, что у самой воды стояла. А мать залезла как-то странно, углом, явно чужого прихватила. Немного, но все-таки прихватила.
– Забери это сено, дядя Аникей, – сказал Степан, – и не шуми. Ну ошиблись…
– А-а-а! – торжествующе крикнул Аникуша. – Испортили траву, а теперь забери! Испоганили всю по-свински! Когда вы подавитесь! Жрете, жрете и никак не нажретесь!
Степан знал, что Аникея ему не переслушать, молча повернулся и ушел. А сосед все кричал, там, у закошенного места, всю Степанову родню до седьмого колена перебирая. Людей каких-то призывал, жаловался им. И все это в голос, чуть не в крик.
Степану до того тошно стало, что он бросил косить и пошел домой. На пути ему мать встретилась.
– Ты чего так рано? – спросила она. – Либо заболел?
– С тобой заболеешь, – зло ответил Степан. – Ты зачем у Аникея закосила? Из-за клочка сена такой скандал. Да лишнего бы ему оставила. Вон как орет.
Мать прислушалась.
– Пусть разоряется. Я в своем праве, – уверенно сказала она. – Он вечно недовольный. А как отец умер, готов нас прям сгрызть. Счас я пойду ему укажу. Еще бабка Маша жива была, она мне все межи переказала.
– Не ругайся ты с ним Христа ради, – попросил ее Степан, – уступи ему. Ну его к черту! Из-за навильника кровь портить.
– И-и-и, иди! – зло бросила мать. – Тоже мне, хозяин! Все готов раздать! – И решительно пошла к саду, навстречу Аникеевой ругне.
Бой продолжался до позднего вечера. Уже из сада вернулись и мать, и Аникей, и теперь переругивались через улицу, от двора ко двору. Приустали, поохрипли и все уже рассказали друг другу о прошлой жизни и будущей, всю грязь вылили, но не сдавались.
– Кобель! Кобелина проклятый ненасытный! – кричала мать, вытягивая шею, а сама тем временем картошку чистила.
– Свиньи, свиные рыла! – доносился тенорок Аникея.
Это прозвища хуторские были: Аникееву фамилию кобелями спокон века звали, а их – свиньями. Редко, конечно, по такой вот жестокой ругне. Вроде бы за породу, за брови. У всей родни по матери бровки были редкие, белые, как щетинки. Вот и звали по злобе свиньями.
Степан сидел в доме. Он уже несколько раз во двор выходил, пытался мать утихомирить.
– Мама, ну хватит, хватит. Весь хутор слышит.
– Нехай! Нехай все знают, как он, кобелюка, ежеминутно загрызает нас! Горло хочет перервать!
– Ты сама своим рылом свиным под всех подрываешь! – не остался в долгу Аникей.
– Кобелюка! Жену извел, кобелюка! Дочерю тоже извел! – бросив и нож, и картошку, побежала к забору мать.
Степан ушел в дом, радио погромче включил. Пытался журнал какой-то листать. И поеживался, морщился при каждом новом крике.
В пятницу, к обеду, Степан обсмотрелся и увидел: дело движется к концу. Сегодня, если хорошо поработать, можно дойти до верб. А там останется ерунда. Правда, еще на огороде люцерна стоит да ячменя кулига. В один день не возьмешь. Но главная работа была позади, останутся доделки. Степан даже отдыхать после обеда не стал. Перекурил и пошел в сад.
И теперь, когда глазами можно было охватить нескошенное, теперь косить стало легче. А тут еще на взлобье место пошло доброе: аржанец стоял густой, колос к колосу, и чистый, без худой травинки. И коса его брала хорошо, с хрустом. Легко шла коса, оставляя после себя низкую ровную щетину. И вот здесь, впервые за эти дни, Степан косил с удовольствием. Рядок пошире брал – рука просила – и проходил его быстро. Один, другой, третий… Будто и жара стояла такая же душная, парило уж какой день, и пот досаждал. Но этот легкий полет косы и звучный ясный хруст срезаемых стеблей словно завораживали, не давали остановиться.
– Ты, парень, к-кончай! – раздался вдруг сзади голос. – Р-разошелся, как т-трактор. К-капитально!
Степан оглянулся. Конечно, это свои пришли: Алешка и Володя-киномеханик.
– А-а, помощнички! – обрадованно воскликнул Степан. – Лексей, вон коса лежит, бери.
– Вставь ее себе з-знаешь куда… – спокойно ответил Алексей. – Давай лучше выпьем.
– К-капитально!
Уселись здесь же, на бережку, возле омута. На огороде луку нарвали.
– А стакан? – огорченно сказал Володя.
– Б-барбосы, – сплюнул Алешка. – Ч-чего бы бе-без меня делали!
Он встал и пошел в глубь сада, туда, где терны непролазной стеной стояли. И скоро вернулся со стаканом.
– П-па всему х-хутору инструмент рассредоточен. К-капитально!
Выпили понемногу.
Степан на Володю пристальней поглядел и присвистнул.
– Чего это у тебя с носом?
Володя потрогал нос. Он у него в шрамах был, в свежих, еще розоватых.
– К-кобель ему, – встрял Алешка. – По пьянке.
– Какой кобель? – изумился Степан.
– А-абыкновенный. Он с ним а-абъясняться стал. По пьянке. Па-пацеловать хотел или в морду п-плюнуть. Неясно. Ну, тот его и цапнул. К-капитально.
Володя вздохнул, недовольно поморщился, сказал:
– Давай, выпьем.
– Эта скотина, – окончательно овладел разговором Алешка (он после второй чарки вроде и заикаться меньше стал), – скотина всякая ненавидит пьяных. К-ка-питально вам говорю. Я вот индюков водил в прошлом году. Приду пьяный, они по-своему бельмечут, бегут и на меня к-кидаются. Щиплют, гады, к-капитально! А на следующий день, – торжествующе оглядел он собеседников, – дохнут. К-капитально! Щиплют и дохнут! Все перевелись.
Одной бутылкой, конечно, не обошлось. Степан за второй смотался. Тут уж совсем хорошо стало. Правда, говорил все больше Алешка. Ну, это всю жизнь так было: если он в компании, остальные могут рот завязывать.
– Н-ну, вот. Работаю я, значит, на ферме. М-молоковозом. К-капитально работаю, не придерешься. День животноводов пришел. Всем п-премии дали, грамоты. А мне не обломилось. Ну, грамоты, хрен с ними. Пе-переживем. А где премия? Зажали. К-капитально! Я сразу к бригадиру…
Хороший был мужик Алексей. Когда-то первый парень на хуторе. И учился хорошо. Техникум сельскохозяйственный кончил. Женился, работал зоотехником, две дочки у него. А потом стал выпивать. Крепче и крепче. И пошло все наперекосяк.
– Н-на разных работах теперь. Это лучше. Скотина эта вся мне н-надоела. Вонючая. К-капитально!
Володя-киномеханик – тот больше на жену да на тещу жаловался:
– Пристали: коси да коси. Всю шею переели. Вроде не успею.
– Трава может перестояться, – сказал Степан.
– Сожрут, – убежденно ответил Володя. – Давай лучше выпьем.
– К-капитально!
Потом среди разговора Алешка вдруг замер.
– Ш-ша, – произнес он. – М-молчок, – и прислушался. – Фа-фашисты приближаются, – вскочил он на ноги. – К-капитально! Скрываемся.
– Какие фашисты? – спросил Степан.
– Ху-хуже настоящих… Я их з-за километр чую. Про нас м-молчок. Мы в па-пар-тизаны…
Алексей с Володькой подались вдоль берега по садам, к плотине. А через минуту-другую – Степан только за косу взялся – появились бабы, Алешкина и Володькина.
– Наших не видал? – спросили они.
– Нет, – сказал Степан.
– Где же их черти носят? Трава стоит.
– Мой нынче и на работу не пошел. Говорит, с утра зачну.
– Выходит, не сбрехал, зачал с ранья. А вот когда кончит?
– Как упадут под забором, так и кончат.
Постояли бабы, пожаловались и ушли.
А Степан в речке поплавал, охладился и косил до самого вечера, пока к вербам не подобрался. Алешка с Володей-киномехаником больше не приходили.
За ужином мать радовалась, места себе не находила. Не раз переспрашивала:
– До верьбов? Это против огорода какие?
– Ну, до них… а то до каких, – отвечал Степан.
– Да прям не верится. Это какую страсть божию помог Господь одолеть. Теперь бы он, милостивец, дождя не наслал. Я завтра на работу не пойду. За два дня мы бы управились. Скопнили бы. Ешь, мой сынок, ешь. Свежих щей наварила. Такие расхорошие получились, – мать и за самогонкой в чулан сбегала. – Выпей с устатку.
Степан принес из кухни стаканчики, бабке налил и матери. Мать с трудом половину выпила, крутила головой. А бабка хоть и старше ее чуть не вдвое была, выпить любила. Щами захлебав, она сказала:
– А дождю быть. У меня какой день коленку – как кошка лапкой дерет.
– Да может, зашибла просто, мама? – испуганно проговорила мать, оставляя еду. – Неужто Господь в такое время допустит!
– С Богом судиться не будешь, – назидательно сказала бабка. А потом успокоила: – Ничего, без дождя сена не бывает. А може, он нас не заденет, стороной обойдет.
– Вот так-то бы лучше, – вздохнула мать. – Я вот планую за субботу-воскресенье все добрать, копны скласть. А на той неделе, мой сынок, еще можно бы покосить в степи или по лесу. У прудов, говорят, трава добрая.
Степан опешил:
– Да ты чего… Куда тебе еще… Возов семь-восемь будет.
– И-и, – отмахнулась мать. – Насчитал, считака… Точно. Меньше семи не будет. Хороших возов. Да у тебя еще с того года сколько осталось.
– Мой сынок! – всплеснула руками мать. – Ты погляди на людей! Каждый старается поболе запасти. Убиваются люди с утра до ночи. Ты у Тарасовых погляди. Они в прошлом году такую страсть божию наворотили – до небес! А в этом году… Да они по этому лету… Огрузются.
– Ну зачем тебе столько? На всю жизнь не запасешь. Мыши поточат, и выкинешь. Давай, бабушка, еще маленько выпьем с тобой.
– Ты погляди, какой он у нас, – сокрушалась мать. – Ну, прям какой-то Егор-наперекор. Ты ему одно, он другое. Сено, говорит, зачем. А скотину чем кормить?
– О-ох, у тебя скотины! Корова да козы. Сколько? Семь штук. Да три овцы. За глаза хватит. А вообще-то вы с бабушкой вдвоем. Пора все переводить. Оставь корову, пару коз на пух – и всё. Поросенок на мясо есть. Гусей полно. Куры. Куда тебе все эти телки, овцы…
Мать ошеломленно, через силу улыбнулась.
– Какой ты у меня все же простоватый! Ты погляди, как люди живут. По скольку чего держат. Кабанов сколько. Коз да овечков до полусотни доводят. Про птицу уж не говорю. Каждый старается расширить хозяйству до невозможностей. Все ж это денежки! Пух – денежка, овечки – забей – денежка! Ты знаешь, мой сынок, по скольку люди за утей да за гусей берут?! А за платки! Такие сейчас цены хорошие пошли, только не ленись.
– Да зачем тебе деньги! О себе подумай, руки пожалей!
Мать даже с лавки приподнялась.
– И-и-и… Нет, все же ты чуток глуповатый. Да деньги же это… С деньгами я… Люди каждую зиму в Москву едут. Напривозят всего. Скатертя какие, накидки, покрывала, шторы, тюль… По скольку всего у людей в сундуках лежит. Холодильники у всех, мотоциклы, машины. Жив был бы отец… Мы б с ним развернулись. Обязательно б машину купили. Не отстали б от людей!
– Зачем тебе машина?
– Снова-здорова! Да сели б и поехали тебя, например, со станции встренуть.
– Я раз в год приезжаю.
– Сели б и в гости поехали в Назмищу к братьям да сестрам, – не сдавалась мать.
– Тебя туда трактором не вытянешь. Помнишь, как приедут за вами, а ты ни в какую? И сама не едешь, и отца не пускаешь.
– Конечно. Чего я туда поеду? Чтоб отец напился.
Степан расхохотался.
– И-и-и, – покачала мать головой, – я тебе откровенно, мой сынок, скажу: ты где умный, а где Ванюшка-дурачок. Ну чистый Ванюшка. Аки наг, аки благ. В кого ты уродился? Мама, были у нас такие в породе, а?
Бабка ответила не сразу. Подумала, ртом беззубым пожевала.
– Ефимка был… Нюрин сын. Это из Сокаревки, из Авдеевых. Не упомню, кем он нам доводился. Этот Ефимка все на гармошке играл. Где какая гулянка, он работу кидает и бегом туда.
Мать обрадовалась.
– Во-во-во! И нашему ничего не нужно. Корову продай, козов не держи, овец переводи, телок тоже лишний. Так, живи абы-абы. Чистый Ефимка. Вот он лучше бы в дядю свово, – завистливо вздохнула она, – в дядю пошел, в назмищенского, в Алексея Михалыча. Вот тот – хозяин. Тот копеечку не проточит. Это ж надо такую домину выстроить! – со сладким ужасом проговорила мать. – Такую страсть божию! И все по ночам доставал да за самогоночку. Вот бы в кого тебе уродиться. Это б счастье…
– Да-а, – мягко рассмеялся Степан.
– Ты над нами не смеись, – сказала мать. – Для тебя ж, мой сынок, стараемся. Ты теперь хозяин и дому, и всему. Девки улетели. Это теперь все равно что чужие. А ты – хозяин. Вот мы с бабушкой как-то сидели, говорили: вот бы Степушка наш перебирался сюда жить. На внучку хоть порадоваться. Думаешь, я не скучаю за ней, – всхлипнула мать. – Вас жалела не знаю как, убивалась. Вроде уж куда больше… А вот внуков, их, чертей, еще жальчей, – рассмеялась она. – Как бы расхорошо зажили, мой сынок… На тебя ведь все удивляются, какой ты смысленый.
– У магазина нады за хлебом сидим, – поддержала ее бабка, – а Матрена, бригадирова теща, говорит: либо у вас Степан колдун или слово какое знает. Энти телевизоры наскрось все чисто видит.
– Чего зря грешить, Господь не обидел, – с гордостью сказала мать. – Вот он еще бы его надоумил сюда перебраться. Дом просторный, хозяйство неплохое. Рук вот не хватает. Они с Олюшкой молодые, здоровые. Я бы им подказывала, и пошло бы дело. Так бы развернули хозяйству. А одна я разве управлю? Бабушка уже старенькая, ничего она не могёт.
Опершись руками на костыль, бабка согласно кивала головой.
– Нету мочи… За гусями пойду… Иду, иду, и мочи нету. Хлеба куплю. Буханков возьму поболе, и руки отымаются. Иду, иду, и хучь бросай посередь дороги. Нету мочи. Хучь кричи. А одна она куды ж… И туды кидается, и там хочет сделать… А руки одне.
– Вот то-то и оно – одне, много не растопоришься, – поддержала ее мать. – Кабы отец-то живой был, мы б с ним катухи́ переделали. Он уж и заготовил все. Хату бы ошелевали шифером, дорожки бы по двору поделали. Да вот не дал Господь… Прогневался, – дрогнул ее голос.
Но тут во двор соседка вошла, Полина.
– Здорово, невеста, – поднялся навстречу ей Степан. – Садись.
– Да некогда, жених. Здравствуйте, – ответила Полина, но на лавку все же присела. – Бабаня, у тебя кулинки нет? У Витьки голова запаршивела. Чешется и чешется. Сегодня глянула, а там какие-то лишаи. Кулинка, говорят, помогает.
– Счас погляжу, Полюшка, – сказала бабка и пошла в дом.
– Вареничков покушай, – предложила мать.
– Не хочу…
– Ешь, невеста, поправляйся…
– Ну, раз жених велит, – сдалась Полина.
Они в школе вместе учились. До восьмого класса. А жили-то рядом. Вот и звали их жених и невеста. И, если честно сказать… Впрочем, зачем о былом… Теперь-то Степан видел Полину редко. И если мать с бабкой, встречи с которыми были не чаще, оставались для него почти такими же, как год, два, как пять и более лет назад, то Полина старела на глазах. В девках миловидная, пышненькая, даже чуть тяжеловатая не по годам (может, тем и брала), после замужества и родов она похудела, стала костлявой, жилистая шея казалась длинной, темное лицо всегда шелушилось, резкие морщины объявились. И в свои двадцать восемь гляделась она не моложе матери.
– Может, выпьешь? – предложил Степан.
– Только и осталось, – засмеялась Полина, прикрывая рукою рот.
Но Степан успел заметить: зубов у нее не было – внизу, сбоку.
– Нашла, Полюшка, – принесла бабка пучок травы. – Только не ополаскивай, когда головку-то помоешь.
Полина ушла. И когда стихли ее шаги, мать со вздохом сказала:
– Какую ты счастью, мой сынок, упустил. До чего делучая девка. Горит все в руках. Из хозяйков хозяйка. Что в колхозе, что дома – везде успеет. Вот за такой-то женой ты б горя не знал.
– А Ольга плохая, выходит?
– Да нет, мой сынок, я Олюшку не хулю. Но она для города. Чтоб под ручку пройтиться, в клуб сходить. Это я говорю, если б ты в колхозе, положим, остался, то лучше Полины не найти. Делучая… Уж эта минуты без дела не посидит.
– Мой сынок, ты на это не гляди, – возразила мать. – Главное, хозяйка. Делучая. А красивые… оне… Красотой жив не будешь. Вот у нас фельшерица… Ты ее видел? Ничего не скажешь, девка хоть куды, все при ней. А вот второй год уже, и никто ее не берет. Против нее все матери восстают. Все как одна заявляют: газетница она, и более никто.
– Какая еще газетница?
– Газетов много читает.
– И чего… чего вам газеты помешали?
– А то, – решительно подбоченилась мать. – Ишо как приехала, сразу заметили, газетница. Федотыча, почтальона, сто раз выглядает. Увидит, бегёт к нему. Ну, сначала люди думали, скучает, письмов ждет. А она кидается: газеты ей, газеты. Вот так да! И на работе книжки читает, домой придет, у Москалевых она стоит на квартире, поист – и снова за эту чтению. Это как?..
– А чего ж ей делать? – спросил Степан. – Водку, что ль, пить?
– Ты не смеись… Хорошая девушка, деловая – найдет работу. За книжками цельный день не будет сидеть.
– Ну чего ж ей делать?! – громче спросил Степан, злиться он уже начинал. – Она, может, и читает-то по специальности, чтобы вас лучше лечить! А вы!
– Ты на меня, мой сынок, не шуми. Можно чуток и почитать. Но и делу ведь надо делать. Можно пуху купить и платки вязать. По ее работе по два платка за месяц можно вывязывать. А это денежка. Вышивать можно салфетки, шить чего-нибудь. Приданое готовить. А как же! Хорошая девушка, она…
– Салфе-етки… – покачал головой Степан.
– Дражни матарю, дражни, а вот помяни мое слово, никто ее не возьмет. Из себя она хорошая, чистая. Испортить могут, а взять не возьмут. Все родители против нее восстают. Так в девках и останется, газетницей! – выкрикнула мать.
Придремавшая бабка вскинулась, головой закивала.
– Газетная, газетная… Нады у магазина сидим, за хлебом. Москалиха говорит: наша ныне до утра свет жгла, читает и смеится все сама с собой, либо умом трогается…
– Ладно, – со вздохом поднялся Степан. – Вас разве переговоришь. Пойду-ка я спать.
– Правильно, мой сынок. Ложись отдыхай, устал. Завтра тоже работа трудная нам с тобой предстоит.
Степан улегся в постель. За стеной бабка начала свою молитву.
– Помяни, Господи, раба твоего… Пошли ему блаженство вечное-бесконечное…
В комнате было душно. Степан хотел подняться, форточку отворить, но вспомнил, что никаких форточек в доме нет и окна не отворяются.
За глухой стеной, на базу, тревожились гуси. Гоготали, гоготали, потом успокоились. А через несколько минут снова переполох. Потом короткий покой, и опять гогот. «Кто их там?» – подумал Степан. Он полежал, послушал, а потом сигареты взял и пошел во двор. Темно во дворе было, безлунно. Степан осторожно к плетневому забору подобрался, глянул: гуси лежали посреди база белыми валунами. Двое старых, как всегда, на страже стояли, вытянув шеи. Остальные покойно дремали. Вдруг одна из коз – они здесь же, на базу, ночевали – решительно направилась к гусиному стаду. Тревожно закричали сторожа, а коза спокойно прошла и стала посреди гусиного лежбища. Встала и стояла, рогатой головой вертела, поглядывала. Переполошились гуси, поднялись и, гневливо гогоча, пошли вперевалочку прочь, к самому плетню. Там и устроились. Погоготали, поволновались и улеглись. И как только покой наступил, коза вперед двинулась. Неторопливо прошла она и снова замерла посреди гусиного стада. И опять поднялся гвалт.
Степан засмеялся, закурил и пошел от база. Баловалась коза, дьяволово племя. Покуривая, вышел он за двор. Прямо перед усадьбой, через дорогу, темнел крутой холм, не очень высокий – в две хаты, не более. Он стоял здесь всегда. Кое-кто из хуторских – любопытных или жадных – пытался по ночам копать его, искали золото. При свете стыдились, а по темноте копали. Несколько канав бороздили чело холма.
Степан поднялся наверх. Хутор лежал в ночи тихий, ни огонька, ни собачьего бреха. Но и во тьме, коротко обрезавшей взгляд, Степан видел все, что хотел видеть. От амбаров и кузницы до садов на берегу Паники, от школы до усадьбы кума Петра. И дальше: кладбище, Лебедевскую гору, колки за речкой… И еще дальше…
Да, никакой тьме не скрыть от глаз человека ту пядь земли, что родилась вместе с ним и держала его на руках чаще матери; подставляла свою мягкую ладонь, когда он падал, не удержавшись на нетвердых еще ножонках; лечила его мальчишеские ссадины – без всяких лекарей, травой своей, лопушком ли, подорожником или просто легкой пылью; кормила во всякие годы купырем, козелком, калачиками, чередой, кислым щавелем, сладким солодком, березовыми и тополевыми сережками, грибами да ягодами, безотказно кормила и в лихие годы, и в добрые, поила чистой водой – и подняла на ноги.
Никакая тьма, кроме смертной, не скроет от глаз человека ту пядь земли, что зовется его родиной.
Но, Боже, как мала эта спящая родная земля: горстка домиков на темной ладони поля… Как мала и темна… Когда вокруг – не над головой, а вокруг, – размахнул немереные свои крылья светлый и торжественный звездный мир.
Степан постоял на холме, покурил и опять, как тогда, в степи, подумал: «Девок бы моих сюда. Вот бы радости было!» И засмеялся, представляя. Как-то в прошлом году, в августе, ездили за грибами, все втроем, на автобусе, с ночевкой. Такая же ночь была. Ольга его просвещала: Лебедь, Рак – целый зоопарк… Плеяды. Он поднял голову: старый друг, Большая Медведица, была на месте.
Пора было спать. Осторожно прошел Степан по тихому дому, но мать услышала его, сонно спросила:
– Чего бродишь, мой сынок?
– Спи, спи, – прошептал он ей.
А сам не сразу уснул. Гуси за стеной волновались. Все шутковала коза, черт неуемный. Но главное, тревожил Степана нынешний разговор со своими. Да и только ли нынешний… Возвращение… Переезд… Вот что не давало покоя. Если бы он возвращался на хутор один, все было бы проще. Хоть и надолго уходил, но словно в гостях побывал, а теперь домой вернулся. Но вот Ольга… Она спокойный человек, добрый. С женой ему очень повезло. Она лишнего не скажет, она лучше перетерпит, смолчит. И это, наверное, плохо. Дочь – малышка. Дочь обвыкнется. А вот Ольга… Слишком легко она соглашается. Может быть, из-за тесноты в квартире… А может, не хочет перечить. Но она не понимает, нет, не понимает всего. Была несколько раз, наездами на день-два, в отпуске жила. Но все это гостьей. А навсегда, хозяйкой… В чужой мир, в чужой… Да и хозяйкой ли, вот еще что… Хозяйкой ли?
Степан лежал, думал и одним лишь успокаивал себя: что не торопился, не высказал матери своих планов о переезде. Наконец его сморили усталость и сон.
Ольга приехала неожиданно и очень вовремя. Степан с матерью поругался. Докосили они быстро и ладно. И скопнить успели. А потом началась маета. Короткие дожди стали перепадать, и почему-то всегда ночью или на заре. Пройдет дождик, мать кричит: «Мой сынок, раскидывай сену, пусть провенется!» А раскидывать не одну копну, а десяток, да все копны серьезные, чуть ли не в воз.
В первый раз Степан и слова не сказал, посбивал макушки и с боков, где подмокло. Но тут же мать появилась с проверкой, и уж она-то, следом, разворочала копны так, что от них ничего и не осталось.
– Для чего? – опешил Степан. – Они же внутри сухие.
– И-и-и, тебе абы не делать, – ответила мать, – на людей погляди, люди не дурей нас, а все разорили.
Степан только вздохнул. Вечером копны сложили вновь. А поутру, уже по свету, дождик прошел. Степан в постели еще слышал, как он тарабанил.
И снова мать подгоняла:
– Не приленивайся, мой сынок, не приленивайся. Пусть провенется, невелика работа.
Но вчера наконец сено свезли. С утра начали и к темноте лишь успели, вывершили. Степан так за день наломался, что ложку за ужином поднять не мог. Мать заложила скирд не по сену (ей все казалось, что мало, мало накосили), и пришлось выводить его высоко. А вилы с длинной ручкой были тяжеленные, их пустыми-то поднять труда стоит. И так Степан за день натаскался и наподнимался этого сенца, что последние навильники чуть не с криком подавал. И руки уже черен не держали, разжимались.
Обмылся он кое-как, за стол сел и заметил, что пальцы на руках, да и вся кисть, отекли, напухли. А в локтях горело, в самых суставах; обхватишь их ладонью – горячо. Похлебал Степан через силу кислого молока, лег, и только глаза закрыл, как закружилось все: и кровать, и земля, и навильники сена поплыли куда-то вверх и вверх. Затошнило, нехорошо стало.
И утром он встал вареным. На крыльцо вышел, плюхнулся на ступеньки, глаза продирал. И тут заметил – мокро. На гусинке – траве, что по двору росла, – капли посверкивали. Лужица стояла возле кухни, на низком месте. Степан поднял голову и охнул: стог, что вчера высился за базом, срезан был наполовину. В сердцах он закурил. И глядя на мать, которая из огорода шла, начал головой качать горестно и губы поджал.
– Выспался, мой сынок, – подошла мать, – а матаря твоя…
– Вижу, – перебил ее Степан. – Моя матаря, – передразнил он, – за ней не соскучишься. Работу всегда придумает. Нет ее, так она ее создаст. Для чего ты… – поднялся он на ноги. – Ну чего ты его разорила? Чешется, да?!
– Не шуми, мой сынок, послал Бог дождя.
– Тьфу, – плюнул Степан.
– Плюй не плюй, а сено не улежонное. Нам бы накрыть его вчера. Матаря забыла, а ты нет чтобы подсказать! Ты все же мужчина, хозяин…
– Да оно же не промокло ничуть!.. Дождь-то какой был!.. А ты все разворочала.
– Люди не дурней нас… Вон Тарасовы тоже разорили. Аникей чуть свет поднялся, все перетрясает. По-хозяйски… А как же, мой сынок, – со слезой проговорила она, – вдруг зачнет преть! Погубим такую сену. И будем зимой с коровкой вдвох реветь. Она на базу, а я в доме.
– Сама будешь класть. У меня уж руки не поднимаются.
– Матаря складет, – вздохнула мать. – Матаре не на кого надеяться. Был бы отец живой…
– При нем бы не раскидала, – перебил ее Степан. – Спросилась бы. А без него дюже хозяйственной стала.
Так, слово за слово, они и поругались. Мать обиделась, надулась, носом пошмыгивала, бурчала: «На матарю теперь все шумят… А матаре шуметь не на кого… Она кругом виноватая…»
Вот тут-то, совсем неожиданно, но очень вовремя, и приехала Ольга с Аннушкой. Степан возле дома сидел, на лавке, мать поросенка кормила, а тут калитка скрипнула, отворяясь, и Аннушка, словно с неба свалившись, во двор вошла осторожно, с опаской. Отца увидела, бросилась к нему.
– Ты откуда? – проговорил он, обнимая ее. – А мама где?
– Она бегом не хочет.
Степан пошел встречать. Ольга в обеих руках несла – сумку и чемодан. Увидев мужа, она остановилась и ношу свою на землю поставила.
– Ты чего как снег на голову? – смеясь, подошел к ней Степан.
– Ой, – сморщилась она, шевеля пальцами рук. – Еле донесла.
– Это ты с автобуса, с грейдера?
– Ну да, на автобусе. Ты, может, ругаться будешь, я путевки взяла, – быстро-быстро начала она объяснять, потому что уже близко к дому подходили. – В завкоме путевка оказалась в наш пансионат, на море, семейная, ехать всем троим, на две недели. Я подумала-подумала, позвонила тебе в цех, Леонтьев говорит – бери. У тебя там какие-то отгулы есть. Ну, я и взяла. Может, думаю, не будет такого случая… А с тобой посоветоваться как? Сюда не дозвонишься! Ехать надо на этой неделе.
– Правильно сделала, – сказал Степан. – Сено уже покосили и свезли. До среды почистим базы и поедем. Покупаемся!.. – счастливо рассмеялся он. – Это хорошо. Я на море ведь ни разу не был. И Аннушка посмотрит. Хорошо.
Мать встречала их у ворот. Бабка стояла рядом, на костыль обеими руками опершись.
– Моя доченька, – жалостливо пропела мать, – да чего же ты не упредила! Степушка бы встренул. Да к нашим не зашла, они бы привезли. Умучалась, моя хорошая.
Тут начались ахи да охи, расспросы да рассказы, и утренняя ругня, конечно, забылась.
Аннушка освоилась быстро. К бабке прилипла, вернее, к прабабке. Та с ней за горохом сходила; и теперь они шелушили зеленые стручки, сидя рядышком на лавке.
– Бабушка, а у тебя зубы тоже от конфет отпали?
– От конфетов, моя хорошая, – засмеялась бабка, – осталось вот, куснуть нечем.
– И у меня от конфет два отпало.
– Кыш, проклятые, – шумнула бабка на кур, которые к самым ногам подобрались.
– Бабушка, можно я их тоже прогоню? – попросила Аннушка.
– Гоняй их дюжей, моя сладкая, весь двор позасрали.
Степан, услыхав эти слова, усмехнулся и на Ольгу глянул.
Та виду не подала. Аннушка, с бабкиным батожком наперевес, пошла вперед.
– Ш-ш-ш, – шипела она, а потом, остановясь, спросила: – Бабушка, а они не кусают?
– Не боись, моя сладкая, не тронут.
– Пойдем-ка в сад, искупаемся, – предложил Степан жене.
– Правильно, сходите. Обмоешься с дороги, моя доча. И Анюшку возьмите, пройдитесь семейно.
Бабка поднялась, сказала:
– Мне надо итить гусей глядеть. Кабы в ячмень не зашли.
– Бабушка, можно я с тобой пойду?
– Пойдем, моя помощница, – довольно улыбнулась бабка. – Собралися стар да млад…
Они пошли через улицу, у холма остановились.
– А она не кусает?! – о чем-то звонко спросила Аннушка.
– Не боись, моя хорошая, не тронет.
Степан с грустью смотрел им вслед. Ах, как стара была бабушка! Согнутая, с каким-то горбом за плечами – откуда он взялся и когда! Голова ее клонилась к земле, хорошо, хоть батожок помогал.
Мать поняла Степана.
– Старенькая у нас бабушка становится, – вздохнула она, – прям никудышная.
Тут на крыльцо вышла Ольга. Она переоделась в легонький открытый сарафан, полотенце взяла. Степан поглядел на жену, улыбнулся. Они жили пять лет. А Ольга вроде не менялась. Даже хорошела. После родов как-то налилось ее тело, чуть располнев. Стало по-настоящему женским. Округлились плечи, руки. Бедра и грудь потяжелели и стали волновать Степана как когда-то, в первые дни.
Ну, пошли, – сказал он, коротко хохотнув, потому что Ольга поняла его взгляд, да и мать, кажется.
– Идите, мои детки. Не грех на люди показаться.
А Степан вдруг вспомнил Полину. Вспомнил – и снова хохотнул, снисходительно, на мгновение поставив ее рядом с Ольгой. Такое сравнение, конечно, было смешным и жалким.
После купания и обеда спали. Долго, часов до четырех. А когда поднялись, то увидели: мать с бабкой картошку моют. Порядочно намыли. Картошка была крупная, ровная, без чернинки. Аннушка тоже старалась, возле нее тазик стоял.
– Ой, сколько, – удивилась Ольга. – Да хорошая какая… – нагнулась она. – У нас, считай, сейчас никакой. Гниль одна. А на базаре по пятьдесят копеек.
– По пятьдесят! – ужаснулась мать. – Вот люди деньги гребут! Вот бы набрали да на базар, как умные люди делают. Вот и копеечка б была.
– А зачем ее моете?
– Спроси у Анюшки, – засмеялась мать. – Расскажи, внучка, папке с мамкой. Они же в крестьянстве не понимают.
– Будем киселек варить, – серьезно объяснила Аннушка. Она картофелину мыла старательно. Платье было мокрым.
Ольга к дочери подошла, присела и, будто помогая, тронула рукой воду. И тут же потянула Аннушку к себе.
– Не мешай, – вывернулась Аннушка.
Степан понял Ольгу и спросил:
– А вода не холодная, ты не простынешь, дочь?
– И-и, – сказала мать, – жара невозможная, а ты… простынешь.
Степан все же воду потрогал. Вода была из колонки, холодная.
– Подожди, – сказал он и, забрав таз, выплеснул из него и пошел к бочонку, который возле база стоял. Там вода с утра наливалась.
За Степаном следили. И мать, и Аннушка, и Ольга.
– Горячая, – засмеялась Аннушка, когда он с гретой водой таз принес.
Мать промолчала.
– Какой кисель? – спросил Степан. – На крахмал, что ли?
– На крахмал. Завтра хотим Гришу попросить. Он перегонит. А то чего такая страсть божия погибнет!
Степан к погребу подошел, заглянул в него и охнул.
– О-ой, вот это да… Это вы накопали?
– У матари, – довольно улыбнулась мать, – у матари всего много. Матаря твоя… Осенью надорвалася – таскала.
– Откуда таскала?
– С полей. Работали на картошке. Каждый день и в обед несешь, и вечером. Надорвалася. Бригадир ничего не говорил. Молодец. Огрузилася картошкой. Уже весной в колхоз сдавала, на ячмень меняли. Немного продала. И все равно пропадает.
– Больше тащи, – сказал Степан. – У тебя же своей не хватает. Две деляны всего. – Он даже закурил с досады. – Ну вот, правда, зачем ты ее брала? Или для чего ты горбатишься, здесь ее садишь? Теперь вот пропадает.
– У матари не пропадет. Крахмалу намоем, – ответила мать. – Люди, мой сынок, помногу крахмалу делают. Вот Тарасовы в тот выходной на подводе привезли. Мешков двадцать, наверное, перегоняли. Во какая страсть…
– У тебя этого крахмала фляга, по-моему, стоит, гниет. Он тебе нужен, этот кисель… Скажи уж, привыкла: надо не надо, а можно, значит – тяни. Пожалела б себя.
– А как же, мой сынок, я не понесу! Люди поглядят, скажут: не хозяйка, ничего ей не нужно, не заботливая. Люди, мой сынок, все примечают. А у матари ничего не пропадает, матаря все обработает.
– Цыганов больше Бог не пошлет, – подняла голову бабка. – Надысь приезжали. Приходют и просют, подай им. А она: чего я вам подам? Хлеба нам не везут. Картошки берите. Они рази откажутся.
Мать не выдержала, перебила бабку:
– Я говорю, надо, так лезьте в погреб, сами и берите, я не полезу. А они: сколько дашь, сестра? Я им: сколько утянете. Они не верют. Мешок, говорят, возьмем. Я говорю – берите, Христа ради, хоть два.
– Они ей потом, – встряла бабка, – счастья тебе будет, сестра, счастья… Поглядишь, вот скоро будет счастья… какая счастья? Загалдели одно: счастья да счастья.
– И ты гляди! – всплеснула руками мать. – Ведь не обманули! Вот мой сынок приехал! И моя доча! И Анюшку привезли… – всхлипнула мать. – Выходит, правду сказали. Вот и пригодилась картошечка.
– Хватит тебе еще из-за этого слезы лить, – подошел Степан к матери.
– Как же, мой сынок, не плакать… Отец был бы живой, поглядел бы на вас, порадовался… Не привел Господь.
– Ладно, ладно… Давай-ка сено начнем складывать. Бросай свою картошку. А то до ночи не управимся.
– И правда, мой сынок, – поднялась мать, и тут же глаза ее обсохли. – Надо складать. Я его уже перетрухнула. Оно хорошо провенулось. А то как бы дождя нам Господь не послал.
Ольга присела возле корыта, начала картошку мыть. Она всегда была молодцом.
– Не грязнись, моя доча, – сказала ей мать. – Пойдите с Анюшкой в сад. Там ягода спеть начинает.
– Не-ет, – отвечала Ольга. – Мы сейчас втроем. Да? – Поглядела она на дочь и на бабку.
А Ольга не угождала (Степан-то знал), она была такой.
Вот и пришел последний день. Проснувшись, Степан долго лежал в постели. И Ольги не было, и Аннушка поднялась. Никого. Он поворочался, заохал. Поясница ныла, и почему-то шея и ноги побаливали. Три база почистить – не шутка. Кобыла, на которой навоз в огороды вывозили, и та, сердечная, к концу второго дня на передние ноги припадать стала, уработалась. Два года базы не чистились.
Он все же поднялся, кряхтя и постанывая.
Ольга возле дома стирала, мать на кухне хозяйничала. Степан по двору прошелся, у ворот козьего база стояк пошатал – надо бы сменить. И конек на сарае собирался сделать – не успел. Крышу на кухне возле трубы поправить, нижнюю ступеньку у крыльца… Не вышло. Взял он кувалду и пошел к погребу. Там крючок навеса выпал, на земле валялся, и дверь перекосило. Дело было нехитрое, но возвращался Степан во двор бодро: какую-никакую, а заботу справил.
– Ты чего стучал, мой сынок? – спросила мать.
Степан объяснил.
– Молодец, – похвалила она. – Это по-хозяйски. А то уж какой месяц шлындает дверь. Давайте, мои дети, завтракать.
– А где Аннушка?
– С бабкой гусей погнала, на луг, за плотину.
– Да я, может, потом, – попросила Ольга. – Дополощу.
– Бросай, моя доча. Садись. В последний разочек уж семейно позавтракаем.
Степан опустил глаза. Он знал, что не в стирке дело, да и стирку Ольга затеяла не случайно. Не любила она на хуторе за столом сидеть. Степан сначала посмеивался, но не винил ее. Ольга привыкла к чистоте, особенно за столом. Дома они посуду всегда дважды мыли: сначала с горчицей, потом полоскали. А здесь… Деревня – она и есть деревня, других дел хватает. Посуду мыть – миски да ложки деревянные – бабкина забота. Ополоснет – и ладно. Ольга поначалу, в первый приезд, сама хотела этим заняться. Но бабка не разрешила. «Мне по силам, – сказала она, – ты уж чем другим помоги».
А теперь Степан не смеялся. Вот сейчас он смотрел, как мать ложки принесла, – Ольгиными глазами смотрел: щербатые ложки, сальные; обтерла их красной тряпкой, которой и со стола смахивала, и руки вытирала. Степану-то не привыкать, всегда так было. А Ольга… Чем помочь ей? Сказать матери нельзя, навек обидится. Приходится терпеть.
– Щей похлебаете, хорошие щи, такие вкусные, – похвалила мать. – Маслица много положила.
– Давай, – сказал Степан, он есть хотел.
Щи, конечно, были… Не могла мать варить. Никогда не умела. Да и кто на хуторе умел? Так, абы горячо да густо, да мясца побольше. Вот Ольга варить могла. Любила… Ну, может, и не любила, но готовила вкусно. У матери, видно, своей научилась. Когда Степан с Ольгой поженились, и перед свадьбой, Степан прямо-таки объедался. Никогда он раньше не думал, что простой борщ или суп могут быть такими вкусными. И пекли они хорошо: пирожки, печенье. Не часто, конечно, но если брались, то получалось.
– Вот варенички пока подостынут, – ворковала мать. – А то больно горячие, – и расстелив на столе все ту же красную тряпицу, стала раскладывать на ней вареники.
– Нет, нет, – быстро сказала Ольга. – Мне… лучше горячие. Я горячие люблю…
– Пожгешь всё нутрё, моя доча.
– Нет, я горячие.
– Ну, гляди.
Аннушка, вбежав во двор, закричала:
– Грибы! Грибы! Грибы! Они на говнах растут!
– На чем, на чем? – не донесла ложку до рта и поднялась Ольга.
– На говнах, – безмятежно глядела на мать Аннушка.
Следом бабка шла, придерживая подол фартука.
– Набрали грибов, – сказала она. – На говнах возля плотины. Во где наросли. Вот на говнах, а люди берут, говорят, не змеиные.
Ольга на Степана беспомощно глянула и опустилась на место. А что Степан? Не мог же он бабку на восьмидесятом году переучивать.
– Садись, мама, вареничков отведай.
– Да я завтракала.
– Чего ты ела… Укусила чуток.
– А мне столько и надо.
Бабка высыпала грибы в таз, налила воды и принялась чистить.
– Какую мы с Анюшкой нынче страсть видали, страсть божию, ху-ух, – покачала она головой. – Рассказывать – и то грех.
– Это чего же? – живо заинтересовалась мать.
– Мимо Насти Кулюкиной идем. К ним гости приехали на машине, из города. Это ее брата Федора либо дочь с зятем, либо сын со снохой и еще кто-то – не знаю, брехать не буду. Вечером, как скотину встревать, они приехали. А нынечка мы гусей отогнали, идем, а из двора… Господи прости… две голые бабы бегут.
– Голые… – с ужасом выдохнула мать.
– В одних трусишках да лифчиках. Чисто ничего не прикрытое, тьфу, – сплюнула бабка. – Я как шла, так и стала. Либо, думаю, пьяный кто за ними гонит… Не, не шумят они, и не гонит никто. Вылетели за двор и начали мячик кидать. Каким ребятишки играют. А я вылупилась и с места сойтить не могу. А они скачут, голяком-то, добром своим трясут, лытками сверкают, ржут, и гривы у них по спине прядают, распущенные. Ну прям чистые кобылюки. Я уж быстрей Анюшку уводить, чтоб дите на этот срам не глядело.
Степан засмеялся, и мать ему сказала:
– Смеись, смеись, сам тоже такой. Знаешь, Олюшка, – пожаловалась она, – мы было такого стыду набрались! Приехал он и надел какие-то ритузы, ну, чистые бабские ритузы. Срам господний. Обтянулся как не знаю кто и направился на люди, в магазин. Господи! Я говорю: сыми, не позорься. И бабушка ему говорит. А он смеится, вот как счас, прямой Ванюшка-дурачок. Чисто ничего не понимает. А мы с бабушкой… Это ж нам потом хучь со двора не выходи. Со слезами его просили, чтоб не позорил. Прям со слезами.
Степан, все так же посмеиваясь, рассказывал жене:
– Ну, тот спортивный костюм, из эластика. Пришлось снимать, в чемодан прятать.
– И правильно сделал, – одобрила мать. – Счас ты вот человек. Мужчина, семейный, на людей похожий…
– Слушай, – перебил ее Степан, – ну ладно, не стал я с вами тогда ругаться. А вот если бы я здесь жил, мне так и нельзя было костюм этот носить, да?.. Вот я бы, может, секцию здесь организовал. Городошную.
– Мой сынок, – испуганно зашептала мать, – какую секту! Господь с тобой… Мама, мама! – заполошилась она. – Олюшка… Какая секта, Господи помилуй…
Степан зашелся в тихом, беззвучном смехе. Он даже глаза закрыл.
– Да никакая не секта, – объяснила Ольга. – Секция, секция – понимаете? На стадион он ходит, в городки играет. В заводской команде. Физкультурник.
– Гос-споди, а у меня всё нутрё оборвалось. Секта, говорят, секта. Это в трясуны, значит, поступил. Фу-у… прям так перепугалась. У нас же вон они, в Сокаревке, такая страсть божия, трясуны… Их прям все боятся. А в свою-то, в эту секту, для чего они ходят? По работе, что ль, заставляют?
– Нет, просто спорт. Развивается. Чтоб сильным быть, здоровым.
Мать перевела взгляд со снохи на сына: не смеются ли над ней.
– Куда ж ему еще здоровей? Вон какой бычок поеный, – мать неодобрительно покачала головой.
– У вас же тоже, я видела, в футбол играют возле клуба, – сказала Ольга. – И волейбольная площадка есть.
– Ребятишки балуются, – ответила мать.
– А взрослые?
Мать снисходительно усмехнулась.
– Чего ж у нас, моя доча, умом, что ль, тронутые? Как вон мама рассказывала. Голые… да с мячиком… Не… До этого, слава богу, не дожили. На Красную горку, это, конечно, как положено, яички катают. Особенно по первости. Бабушка наша и то, в позапрошлом, по-моему, годе… Мама, когда это ты пять яиц-то выиграла?
– В позапрошлом, в том-то я уж болела.
– На Красную так положено. Стар и млад. Весело бывает. У нас прям напротив двора катают, У Максимовых мячик тряпошный есть. Многие собираются, и до самого допоздна.
– Ну вот, сама говоришь – весело. Вот и собирались бы весь год. В городки бы играли, в волейбол.
– Ну да, – согласилась мать. – Игрались бы и игрались. Хозяйству бы всю кинули. Колхозную бы кинули и свою. Сами бы зубы на полку, и вас в городе прищучили. Вы бы в голос закричали: «Иде молочко?! Хлебушек иде?! Яичков давайте, мясца…» А мы вам: мол, некогда, в мячик играем.
– Ну тебя, – отмахнулся Степан. – Тебе про одно, ты про другое.
– Маши на матарю, маши. Матаря у тебя глупая. Ничего не понимает. А матаря все понимает. Наша крестьянская работа, моя доча, невозможная, тяжельше не найдешь. Ты-то, Степушка, ее сам знаешь. От этой работы и наш отец как следует не пожил. То война, потом жизня тяжелая. Ему бы отдохнуть, полечиться. А оно, видишь, одно за другим. Вас надо было подымать. И забрал его Господь, – всхлипнула мать. – Теперя куды прислониться, кому пожалиться? На могилу пойду, а он молчит… Не отвечает… Либо обиду какую держит, либо что не так справили…
Невесело кончился завтрак. А впереди, до отъезда, было еще полдня. Решили по хутору пройтись, попрощаться с кумами, но их дома не оказалось. И пошли Степан с Ольгой по дороге дальше, за хутор, за колхозные сады, к Лебедевской горе.
На нее и подниматься не хотели; но дорога вела нетрудно, полого, и шаг по шагу оказались наверху. Справа от дороги лежало молодое пшеничное поле. Слева, в полусотне метров, – крутой спуск, почти обрыв. К нему и подошли Ольга со Степаном и сели на самом взлобье.
День стоял неяркий, солнце было прикрыто светлой пеленой облаков. И потому легко было глядеть вокруг.
Внизу лежала чистая вода Лебедевского озера. Свежая зелень камыша обходила озеро вокруг, размыкаясь лишь на той стороне. Там белел песчаный берег. Озеро уходило вправо; а налево, за табачной плантацией и садами, расстилалась плоская равнина. Речка текла по ней. Воды ее, конечно, не были видны, скрытые урёмой, но матово серебрились вершины старых верб на обережье и показывали, как, прихотливо змеясь, описывала Паника огромную дорогу и уходила к дальнему лесу, к Бузулуку. Хутора были видны: сразу за речкой, среди малых озер и бочажинок, – Камышовский, Березовка на светлых песках, за ней – еле видный – Ярыженский. И совсем уж вдали, на самом краю земли, – серебряный столбик станционного элеватора.
Еще один хутор лежал прямо здесь, внизу, под горой, у озера. Бывший хутор Липо-Лебедевский. Еще стояли сады. Нерушимой чередой тянулись они по берегу озера, вдаль, расступаясь лишь в тех местах, где недавно еще дома были, дворы, базы, огороды. Все это было, было… А теперь лишь ямины, да плеши, да старые плетни. Два дома остались на хуторе. Один чернел пустыми проемами окон и дверей. В другом жили, вернее, жила.
– Гляди, человек, женщина, – сказала Ольга, трогая Степана за руку и указывая.
– Сладкая Махора, – ответил Степан.
– Почему сладкая… Какая Махора?
– Ну, Махора – имя, а сладкая… – улыбнулся Степан. – Мужики к ней бегали со всех хуторов. Самогоночка у нее водилась. Одна жила. Всех принимала. Ну, бабы всегда ругались: «Чего она вам сладкая такая, эта Махора!» Сладкая да сладкая, вот и пошло… К кому за самогонкой? К Махоре сладкой. Куда подался? Да к Махоре сладкой.
– О-ой, и как же она здесь одна?
– Да как, – пожал плечами Степан, – да так, куда ж ей… Хутор разбежался. А она куда… Перевозить хату – там перевозить нечего, мазанка. А так… Кто и где ее ждет! Здесь уж и помирать будет, никуда не денешься.
– Ох, нехорошо это, – поежилась Ольга.
Внизу, под горой, возле мазанки своей под черной соломенной крышей, ходила по двору старуха. Из ведра выплеснула и ушла в дом, снова на дворе появилась, в огороде покопалась, к плетню подошла, постояла, принялась поправлять его и замерла. В темном платке, в телогрейке, стояла она и куда-то смотрела, вроде на озеро.
Тягостно и даже жутковато было глядеть на эту единую живую душу среди зеленой пустыни. Так и искал взгляд какого-то человечьего движения где-то вблизи. Но покойно стояли сады; лебеда, лопухи да крапива ярились на пустошах, и лишь рыбий плеск время от времени живил пустую гладь озера.
– Не-ет, – решительно сказала Ольга. – Какие-то у вас порядки… бездушные. Ну, в дом бы ее престарелых определили, что ли… Надо ж как-то человеку помочь.
– А она туда пойдет?
– Конечно.
– Жди, – шумно выдохнул Степан. – Как же… Здесь же родина ее, всю жизнь прожила. Здесь все ее. Здесь она хозяйка. Никуда она не уйдет.
– Чего хозяйка? – с ужасом спросила Ольга.
– Хата, козы у нее есть, куры, коровы-то, наверно, нет, сена не накосит, поросенок, огород, сад. Все свое.
– Да-а, – только и сказала Ольга.
– Не веришь, пойдем к ней, спросишь, – предложил Степан. – Она нам такой дом престарелых даст, – засмеялся он. – К ней, наверно, еше мужики ездят, если самогонка водится. Пошли? Спросишь?
– Нет, нет, нет… Верю, верю… Верю. Пойдем-ка отсюда, – сказала Ольга. – Пора.
– Подожди, посидим. Хорошо здесь, – ответил Степан, и взгляд его, оставив брошенный хутор и старухин дом, поднялся, чтобы видеть все окрест.
– Послушай, а почему ей колхоз не поможет? Она же колхозница. И помогли бы ей, новую хатенку поставили, возле людей.
– Не-е, они здесь, в Липо-Лебедевском, такие колхознички были, господи прости. Сроду никого на работу не вытянешь. А уж Махора-то… У нее же шалман был. Наоборот, от работы мужики спасались. Соберутся, в карты играют, выпивают. Так что колхоз ей ничего делать не будет.
– Ну пусть люди помогут. Сообща, все вместе, где-нибудь построят мазанку, такую же.
– Никто ничего делать не будет, – поднимаясь, сказал Степан. – Кому она нужна? Куда кто ее будет переселять? Доживет как-нибудь. Пошли.
Ольга поднялась не сразу и, даже пройдя несколько шагов, остановилась и вновь, в последний раз, поглядела на старухин дом. Потом, догнав Степана, она сказала:
– Ты как-то так говоришь об этом, равнодушно, мне даже… не по себе.
Обняв жену, Степан сказал с виноватым смешком:
– Ну слушай, ну что я могу сделать? Я тебе ведь все говорю так, как оно есть. Правду говорю. Ну, от меня б зависело, я ее, ради бога, куда хочешь бы переселил, хоть в Москву, на Красную площадь. Ты же сама все спрашиваешь, а я тебе, выходит, брехать должен, да? Для успокоения. Так лучше? А я тебе правду говорю: никто ее не переселит. Здесь она и будет. И не переживай ты, господи! Там, чуть подальше, километра два – еще дом стоит. Там такое поместье. Кузнец живет. Бочаров. А от него километра два – Бударинский хутор. Здоровый хутор, больше нашего. А три-четыре километра – по-нашему это, считай, нет ничего. Вроде остановка на троллейбусе. Поняла?
– Поняла, поняла…
– Тогда пошагали. Собираться надо…
Они уже к хутору подходили, кончались сады, когда Ольга спросила:
– Ну а что с переездом? Ты матери, я вижу, ничего не сказал, да? Передумал? – Она спросила все это спокойно, без усмешки, и правильно сделала.
Степан сразу же за куревом полез.
– Пока не сказал, – ответил он. – Подождем. О работе я узнавал. Так, вроде шутя, с управляющим разговаривал. Работа есть и тебе, и мне. Ну а ты, вот ты, – останавливаясь посреди дороги, спросил Степан, – ты вот честно мне скажи: хочешь ты переезжать или нет? – он даже сигарету в сторону отнес, чтобы дым ее не мешал жене в глаза глядеть.
– А чего злишься? – спросила Ольга. – Я тебе давно сказала: решишь – значит, переедем.
– Ну а ты-то, сама, у тебя же голова тоже на плечах, – раздраженно сказал Степан, – и глаза у тебя есть, почему я должен решать, а? Почему один?
– Потому что, прежде всего, это твой дом, – ответила Ольга. – Твой, а потом уже наш с Аннушкой. И от тебя, прежде всего, будет зависеть, будет ли он нашим. Когда мы поженились, я особых разговоров не разводила, сказала: жить будем у наших. Так? Сказала, потому что знала, твердо знала: где мой дом, там и тебе будет хорошо. Вот так. А здесь решать тебе. Вот и решай. Вот сейчас можешь сказать, и я соглашусь. Не из-за того, что я баба, и, мол, нитка за иголкой… Нет. Мне, как говорится, и хочется, и с другой стороны… Не знаю. Дом-то твой, Степа, твоя это родина, пойми. Твоя мать, все твое. Когда-то мое будет, а сейчас твое, мне чужое. И решать тебе.
– Ладно, – примирительно сказал Степан и вздохнул. – Пока подождем. Посмотрим еще, подумаем. Не будем спешить, горячку пороть. Не будем…
С тем и домой вернулись. Там их уже ждали и волновались. Но сборы были недолгими, и достало еще времени сходить к отцу на могилку попрощаться, спокойно за обеденным столом посидеть.
По-прежнему затянуто было небо легкой пеленой облаков, и сиделось во дворе хорошо. Как это всегда бывает в предотъездные минуты, на душе у Степана и радостно было, и горько. Не терпелось быстрее встать из-за стола и уехать. Завтра уже будет город, и сразу же новая дорога, к морю. Он никогда не видел моря. И уже сейчас, вот здесь, за столом, радовался той встрече, что будет через день-другой. И торопился, стараясь приблизить ее. Но в то же время сидел он вот здесь, за столом, и все свои были вокруг, и всё свое. Ровная густая шерстка гусынки покрывала двор. Рядом, почти над головой, склонилась светлая зелень молодых веток вяза. За сараями и базами виднелись деревья сада. И покойно вокруг было, тихо, будто перед дождем. И Степану не хотелось никуда уезжать. Так и сидел бы здесь, и жил. Сейчас бы за грибами сходил…
Петух, подойдя прямо к столу, заорал что есть мочи.
– Ежели ты к добру, так еще кричи, – сказала бабка, – а к худу, так иди отсюда.
Взлетев на забор палисадника, петух еще раз прокричал так же победно. Степан поглядел на него, улыбнулся; петух уже восвояси убрался, а Степан все с той же грустной улыбкой смотрел, куда не зная сам.
– Ты чего заскучал, мой сынок? – спросила мать.
– Не-а, – вскинулся Степан. – Это я… – Хорошо, что на глаза ему капуста попалась, за заборчиком она росла. – Я на капусту гляжу. Хорошая у тебя нынче капуста.
– У нас, мой сынок, – довольно усмехнулась мать, – завсегда капуста первая в хуторе. Не хвалясь скажу. А уж нынче наша капуста как цветик стоит. Все завидуют.
– Ну, давай по последней, бабушка, выпьем, – сказал Степан. – За капусту.
– А не много мне будет?
– Ничего, мама, выпей. Я б и то выпила, да на работу с обеда собираюсь.
– Сиди уж сегодня, отдохни…
– Нам, мой сынок, некогда теперь отдыхать. Самая работа пошла. Надо выходá зарабатывать. А то кабы без зерна не остаться. Тем боле… – поглядела она на мать. – Принесу я, мама?
– Неси, чего же… – кивнула ей бабка.
Мать поднялась из-за стола и пошла в дом.
– Ты куда? – спросил ее Степан.
Мать ничего не ответила.
Степан, отодвинувшись на край скамейки, закурил.
– Поели-попили, что Бог послал, теперь закусим, что черт придумал, – отмахиваясь ладонью от дыма, проговорила бабка.
Степан догадывался, куда мать пошла, и посмеивался. Сейчас какие-нибудь подарки принесет. Накупила в своем магазине. И обязательно наберет такого, чего одеть нельзя. Надарит и Ольге, и теще, и тестю – всем. И выкинуть не выкинешь эти платья да рубашки, и носить не будешь. Сколько уж ей Степан говорил, а она по-своему.
Но мать вернулась без свертков. Подошла к столу, не села. Лицо ее, и без того красное, всегда до мяса обгорающее на солнце, загорелось еще более. Нос и брови прямо-таки алели.
– Мои детки, – сказала она и всхлипнула. – Мы с бабушкой думали-думали и вот что порешили. Мы все надеялись, что, може, вас Бог научит, и вы сюда переедете на жительство. Здесь бы вам неплохо было. Но, видно, ничего это не получится. Видно, уж все… Тогда мы порешили: устраивайтесь, мои хорошие, в городе по-хозяйски, по-настоящему. Своим домом живите.
Бабка глаза прикрыла коричневыми веками и кивала головой, будто клевала что-то невидимое.
– И вот мы вам дарим, мои хорошие, на обзаведение квартиры пять тысяч рублей, – вынула мать руку из-под фартука и протянула Степану сверток, обвязанный новым, белым с синими горошками, платком. – Всё, мои детки, и что у бабушки с дедом Колюшей накопленное было, и мы с отцом на строительство собирали да и на черный день. Всё вам дарим. Живите, мои хорошие.
Мать села и принялась передником глаза утирать. Степан, а за ним и Ольга подошли к матери, к бабке, поцеловали их.
– Устраивайтесь. Може, мне придется у вас век доживать. Не приведи господь, а може… Ладно, собирайтесь, а то кабы не опоздать.
– Пойду за Анюшкой, – поднялась бабка. – Заигралась она.
С бабкой прощались у двора. Она осталась стоять, опершись на костыль грузно, всем телом.
Мать, провожая их, лопату взяла, на работу она сразу шла.
– Тока будем обделывать, – сказала она. – Глину возить. Плохая работа. Тяжелая. Ты, Олюшка, деньги ему не давай, – учила она сноху, – дотронуться не давай. Как приедете, сразу на книжку. И глядите у меня, на морю на эту поедете – ни копеечки из этих денег не берите. А то этот ухарь-купец, – погрозила она Степану. – Знаю я, как на эти курорты ездиют и как без штанов приезжают.
«Откуда ты знаешь?» – чуть не спросил Степан, да вовремя спохватился.
– Не гляди, мой сынок, – догадалась мать. – Матаря все знает… Ты, моя доча, може, их лучше за пазуху приберешь, в лифчик? – сказала мать. – А то, не дай бог, кто-нибудь… вырвет сумку – и ищи-свищи. И как приедете – сразу телеграмму отправьте. Все, мол, в порядке, довезли благополучно. А то мы будем с бабушкой ночей не спать. Все чисто попередумаем. Такую страсть божию везете…
За фермами догнала их машина. Степан с каким-то облегчением посадил жену с Аннушкой в кабину, сам же влез в кузов.
Машина побежала вперед. Ветер отбросил со лба волосы, тугие прохладные струи потекли через распахнутый ворот рубахи по телу. Степан оглянулся: хутор, разворачиваясь, уплывал назад.
С гулом пронеслась встречная машина и накрыла Степана облаком густой удушливой пыли. Степан, спасаясь, присел за кабину. Но уже в горле першило, и в носу, и на лице Степан чувствовал эту липкую пыль. Он поглядел, далеко ли грейдер. Грейдер был рядом, за лесополосой. «Ну и слава Богу, – подумал Степан. – Там потверже, пыли поменьше».
А машина, повернув, уже взбегала на дамбу грейдера, к кирпичной конуре автобусной остановки.