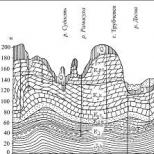Николай гумилев сын. Гумилев Лев Николаевич: биография, интересные факты. Докторские диссертации и публикации Гумилева
Он родился в семье поэтов Николая Гумилёва и Анны Ахматовой. В детстве он воспитывался у бабушки в имении Слепнево Бежецкого уезда Тверской губернии. Маленький Лев очень редко видел своих родителей, они были заняты своими проблемами и редко приезжали в Слепнево – родовое имение матери Николая Степановича, Анны Ивановны Гумилёвой. После того, как разразилась Первая мировая война, и следом - революция, небольшие посылки и денежные переводы из Санкт-Петербурга в небольшое имение Слепнево, находящееся в глубинке Тверской губернии, доходили редко. Родители Льва практически туда не выезжали. Отец Льва – Николай Гумилёв, одним из первых в 1914 году ушел на фронт добровольцем, а мать – Анна Ахматова недолюбливала Слепнево, и характеризовала эту деревеньку так: «То неживописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба». Но если Льву и недоставало родительской ласки, то бабушка, Анна Ивановна, компенсировала это невнимание сполна. Она была очень набожным человеком, с широким кругозором, с детства приучала Левушку к тому, что мир гораздо более разнообразен, чем представляется с первого взгляда. Она объясняла Льву - то, что мы видим на поверхности, на самом деле имеет свои корни, порой такие глубокие, что докопаться до них нелегко, а также «взгляд» в небо, в бесконечность. А значит, на любое явление нужно смотреть под этим ракурсом: корни, само дерево и ветви, которые тянутся в бесконечность. «Детство свое я помню очень туманно и толково сказать о нем ничего не могу. Известно мне только, что я был передан сразу на руки бабушке - Анне Ивановне Гумилёвой, увезен в Тверскую губернию, где у нас был сначала дом в деревне, а потом мы жили в городе Бежецке, в котором я и кончил среднюю школу. В это время я увлекся историей, и увлекся потрясающе, потому что перечитал все книги по истории, которые были в Бежецке, и по детской молодой памяти я очень много запомнил» - писал Лев Николаевич в своей автобиографии.
Лев Гумилёв с родителями - Н.С.Гумилёвым и А.А.Ахматовой.
В 1917 году, после Октябрьской революции семья покинула деревенский дом и переселилась в Бежецк, где Лев учился в средней школе до 1929 года. Уже в школе он оказался «белой вороной» и был обвинен в «академическом кулачестве» за то, что он по своим знаниям и успехам выбивался из общего ряда. И в будущем деятельность ученого из-за своей новизны, оригинальности постоянно ставила его в такое же положение.
Лев Гумилев с матерью и бабушкой, А.И.Гумилёвой. Фонтанный Дом, 1927 год.
Последний класс средней школы Лев Гумилёв закончил в 1930 году в Ленинграде, в средней школе N 67 на Первой Красноармейской улице. Он рассказывал: «Когда я вернулся обратно в Ленинград, то я застал картину очень для меня неблагоприятную. Для того чтобы закрепиться в Ленинграде, меня оставили в школе еще на один год, что пошло мне только на пользу, так как я уже мог не заниматься физикой, химией, математикой и прочими вещами (которые мне были известны), а занимался я главным образом историей и попробовал поступить на курсы немецкого языка, готовящие в Герценовский институт».
Лев Гумилев. 1926 год.
В 1930 году Лев Гумилёв подал заявление в университет, но ему было отказано в приёме из-за социального происхождения. В том же году он поступил чернорабочим на службу в трамвайное управление города «Пути и тока». Также он встал на учёт в бирже труда, которая на следующий год направила его работать в геолого-разведочный институт, известный тогда как «Институт неметаллических полезных ископаемых» Геологического комитета. В 1931 году в составе геологической поисковой экспедиции Гумилёв работал в Саянах коллектором, и об этой работе рассказывал: «Я попытался изучать геологию, но успеха никакого не имел, потому что эта наука была не моего профиля, но я тем не менее в должности наименьшей - младшего коллектора - поехал в Сибирь, на Байкал, где участвовал в экспедиции, и месяцы эти, которые я там провел, были для меня очень счастливыми, и я увлекся полевой работой».
В 1932 году Лев Гумилёв устроился научно-техническим сотрудником в экспедицию по изучению Памира, организованную Советом по исследованию производительных сил. Здесь он по своей инициативе вне рабочего времени увлекся изучением жизни земноводных животных, что не понравилось начальству, и он был вынужден оставить работу в экспедиции. Он поступил на работу малярийным разведчиком в местную малярийную станцию совхоза Догары и усиленно занимался изучением таджикско-персидского языка, овладевал секретами арабской вязи-письма. Потом, уже в университете, самостоятельно выучил и персидскую грамоту. «11 месяцев жил в Таджикистане, - вспоминал Лев Николаевич, - изучал таджикский язык. Научился я говорить там довольно бодро, бегло, это мне принесло потом большую пользу. После этого, отработав зиму опять-таки в Геологоразведочном институте, я по сокращению штатов был уволен и перешел в Институт геологии на Четвертичную комиссию с темой уже мне более близкой - археологической. Участвовал в Крымской экспедиции, которая раскапывала пещеру. Это уже было для меня гораздо ближе, понятнее и приятнее. Но, к сожалению, после того как мы вернулись, мой начальник экспедиции крупный археолог Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский был арестован, посажен на 3 года, и я опять оказался без работы. И тогда я рискнул и подал заявление в университет».
В 1934 году Лев Гумилёв в качестве студента исторического факультета Ленинградского университета слушал курсы по истории у В.В.Струве, Е.В.Тарле, С.И.Ковалева и других светил исторической науки. Гумилёв рассказывал: «34-й год был легким годом, и поэтому меня в университет приняли, причем самое трудное для меня было достать справку о моем социальном происхождении. Отец родился в Кронштадте, а Кронштадт был город закрытый, но я нашелся: пошел в библиотеку и сделал выписку из Большой советской энциклопедии, подал ее как справку, и, поскольку это ссылка на печатное издание, она была принята, и меня приняли на исторический факультет. Поступив на истфак, я с охотой занимался, потому что меня очень увлекли те предметы, которые там преподавались. И вдруг случилось общенародное несчастье, которое ударило и по мне, - гибель Сергея Мироновича Кирова. После этого в Ленинграде началась какая-то фантасмагория подозрительности, доносов, клеветы и даже (не боюсь этого слова) провокаций».
В 1935 году Лев Гумилёв был первый раз арестован вместе с тогдашним мужем Анны Ахматовы Пуниным и несколькими сокурсниками. Как ни странно, но обращение Анны Ахматовой к Сталину спасло Льва Гумилёва и арестованных вместе с ним студентов университета «из-за отсутствия состава преступления». Тем не менее, он был исключён из университета и позже рассказывал: «Больше всех от этого пострадал я, так как после этого меня выгнали из университета, и я целую зиму очень бедствовал, даже голодал, т. к. Николай Николаевич Пунин забирал себе все мамины пайки (по карточкам выкупая) и отказывался меня кормить даже обедом, заявляя, что он «не может весь город кормить», т. е. показывая, что я для него совершенно чужой и неприятный человек. Только в конце 1936-го года я восстановился благодаря помощи ректора университета Лазуркина, который сказал: «Я не дам искалечить жизнь мальчику». Он разрешил мне сдать экзамены за 2-й курс, что я сделал экстерном, и поступил на 3-й курс, где с восторгом начал заниматься уже не латынью на этот раз, а персидским языком, который я знал как разговорный (после Таджикистана) и учился теперь грамоте». В это время Лев Гумилёв постоянно посещал Ленинградское отделение Института Востоковедения АН СССР (ЛО ИВАН АН СССР), где самостоятельно изучил печатные источники по истории древних тюрков.
В 1937 году Гумилёв выступил с докладом в ЛО ИВАН АН СССР на тему «Удельно-лествичная система тюрков в VI-VIII веках», который спустя 22 года - в 1959 году увидел свет на страницах журнала «Советская этнография».
В начале 1938 года Лев Гумилёв снова был арестован, будучи студентом ЛГУ, и осуждён на пять лет. Гумилёв рассказывал: «Но в 1938-м году я был снова арестован, и на этот раз уже следователь мне заявил, что я арестован как сын своего отца, и он сказал: «Вам любить нас не за что». Это было совершенно нелепо, потому что все люди, принимавшие участие в «Таганцевском деле», которое имело место в 1921-м году, к 1936-му уже были арестованы и расстреляны. Но следователь капитан Лотышев не посчитался с этим, и после семи ночей избиения мне было предложено подписать протокол, который не я составлял и который я даже не смог прочесть, будучи очень избитым. Сам капитан Лотышев потом, по слухам, был расстрелян в том же 1938-м году или в начале 1939-го. Суд, трибунал меня и двух студентов, с которыми я был еле знаком (просто визуально помнил их по университету, они были с другого факультета), осудили нас по этим липовым документам с обвинением в террористической деятельности, хотя никто из нас не умел ни стрелять, ни на шпагах сражаться, вообще никаким оружием не владел. Дальше было еще хуже, потому что прокурор тогдашний объявил, что приговор в отношении меня слишком мягок, а сверх 10-ти лет по этой статье полагался расстрел. Когда мне об этом сообщили, я это воспринял как-то очень поверхностно, потому что я сидел в камере и очень хотел курить и больше думал о том, где бы закурить, чем о том, останусь я жив или нет. Но тут произошло опять странное обстоятельство: несмотря на отмену приговора, в силу тогдашней общей неразберихи и безобразия, меня отправили в этап на Беломорский канал. Оттуда меня, разумеется, вернули для проведения дальнейшего следствия, но за это время был снят и уничтожен Ежов и расстрелян тот самый прокурор, который требовал для меня отмены за мягкостью. Следствие показало полное отсутствие каких-либо преступных действий, и меня перевели на особое совещание, которое дало мне всего-навсего 5 лет, после чего я поехал в Норильск и работал там сначала на общих работах, потом в геологическом отделе и, наконец, в химической лаборатории архивариусом».
После того, как Лев Гумилёв отсидел назначенные ему пять лет, в 1943 году он был оставлен в Норильске без права выезда и работал техником-геологом. В бараке он жил по соседству с татарами и казахами и выучил татарский, а также казахский и тюркские языки. Гумилёв рассказывал: «Мне повезло сделать некоторые открытия: я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске при помощи магнитометрической съемки. И тогда я попросил - как в благодарность - отпустить меня в армию. Начальство долго ломалось, колебалось, но потом отпустили все-таки. Я поехал добровольцем на фронт и попал сначала в лагерь «Неремушка», откуда нас, срочно обучив в течение 7 дней держать винтовку, ходить в строю и отдавать честь, отправили на фронт в сидячем вагоне. Было очень холодно, голодно, очень тяжело. Но когда мы доехали до Брест-Литовска, опять судьба вмешалась: наш эшелон, который шел первым, завернули на одну станцию назад (уж не знаю, где она была) и там стали обучать зенитной артиллерии. Обучение продолжалось 2 недели. За это время был прорван фронт на Висле, я получил сразу же назначение в зенитную часть и поехал в нее. Там я немножко отъелся и, в общем, довольно благополучно служил, пока меня не перевели в полевую артиллерию, о которой я не имел ни малейшего представления. Это было уже в Германии. И тут я сделал действительно проступок, который вполне объясним. У немцев почти в каждом доме были очень вкусные банки с маринованными вишнями, и в то время, когда наша автомобильная колонна шла на марше и останавливалась, солдаты бегали искать эти вишни. Побежал и я. А в это время колонна тронулась, и я оказался один посреди Германии, правда, с карабином и гранатой в кармане. Три дня я ходил и искал свою часть. Убедившись, что я ее не найду, я примкнул к той самой артиллерии, которой я был обучен - к зенитной. Меня приняли, допросили, выяснили, что я ничего дурного не сделал, немцев не обидел (да и не мог их обидеть, их не было там - они все убежали). И в этой части - полку 1386 31-й дивизии Резерва Главного командования - я закончил войну, являясь участником штурма Берлина. К сожалению, я попал не в самую лучшую из батарей. Командир этой батареи старший лейтенант Финкельштейн невзлюбил меня и поэтому лишал всех наград и поощрений. И даже когда под городом Тойпицем я поднял батарею по тревоге, чтобы отразить немецкую контратаку, был сделан вид, что я тут ни при чем и контратаки никакой не было, и за это я не получил ни малейшей награды. Но когда война кончилась, и понадобилось описать боевой опыт дивизии, который было поручено написать нашей бригаде из десяти-двенадцати толковых и грамотных офицеров, сержантов и рядовых, командование дивизии нашло только меня. И я это сочинение написал, за что получил в виде награды чистое, свежее обмундирование: гимнастерку и шаровары, а также освобождение от нарядов и работ до демобилизации, которая должна была быть через 2 недели».
В 1945 году Лев Гумилёв после общей демобилизации вернулся в Ленинград, снова стал студентом в ЛГУ, в начале 1946 года экстерном сдал 10 экзаменов и окончил университет. За это же время он сдал все кандидатские экзамены и поступил в аспирантуру ЛО ИВАН СССР.
Летом 1946 года, будучи аспирантом, Лев Гумилёв принял участие в археологической экспедиции М.И.Артамонова в Подолии. Гумилев рассказывал: «Когда я вернулся, то узнал, что в это время мамины стихи не понравились товарищу Жданову и Иосифу Виссарионовичу Сталину тоже, и маму выгнали из Союза, и начались опять черные дни. Прежде чем начальство спохватилось и выгнало меня, я быстро сдал английский язык и специальность (целиком и полностью), причем английский язык на «четверку», а специальность - на «пятерку», и представил кандидатскую диссертацию. Но защитить ее уже мне не разрешили. Меня выгнали из Института востоковедения с мотивировкой: «За несоответствие филологической подготовки избранной специальности», хотя я сдал и персидский язык тоже. Но несоответствие действительно было - требовалось два языка, а я сдал пять. Но, тем не менее, меня выгнали, и я оказался опять без хлеба, без всякой помощи, без зарплаты. На мое счастье, меня взяли на работу библиотекарем в сумасшедший дом на 5-й линии в больницу Балинского. Я там проработал полгода, и после этого, согласно советским законам, я должен был представить характеристику с последнего места работы. А там, т. к. я показал свою работу очень хорошо, то мне и выдали вполне приличную характеристику. И я обратился к ректору нашего университета профессору Вознесенскому, который, ознакомившись со всем этим делом, разрешил мне защищать кандидатскую диссертацию». Таким образом, Лев Гумилев был допущен к защите диссертации кандидата исторических наук при ЛГУ, которая состоялась 28 декабря 1948 года.
Весной 1948 года Лев Гумилёв в качестве научного сотрудника принял участие в археологической экспедиции под руководством С.И.Руденко на Алтае, на раскопке кургана «Пазырык». После защиты кандидатской диссертации его с трудом приняли на работу научным сотрудником в «Музей этнографии народов СССР» из-за отсутствия решения ВАКа. Но решения он так и не дождался, потому что 7 ноября 1949 года снова арестован. Гумилёв рассказывал: «Меня арестовали снова, почему-то привезли из Ленинграда в Москву, в Лефортово, и следователь майор Бурдин два месяца меня допрашивал и выяснил: а) что я недостаточно хорошо знаю марксизм, для того чтобы его оспаривать, второе - что я не сделал ничего плохого - такого, за что меня можно было преследовать, третье - что у меня нет никаких поводов для осуждения, и, в-четвертых, он сказал: «Ну и нравы у вас там!». После чего его сменили, дали мне других следователей, которые составили протоколы без моего участия и передали опять-таки на Особое совещание, которое мне на этот раз дало уже 10 лет. Прокурор, к которому меня возили на Лубянку из Лефортова, объяснил мне, сжалившись над моим недоумением: «Вы опасны, потому что вы грамотны». Я до сих пор не могу понять, почему кандидат исторических наук должен быть безграмотен? После этого я был отправлен сначала в Караганду, оттуда наш лагерь перевели в Междуреченск, который мы и построили, потом в Омск, где в свое время сидел Достоевский. Я все время занимался, так как мне удалось получить инвалидность. Я действительно себя очень плохо и слабо чувствовал, и врачи сделали меня инвалидом, и я работал библиотекарем, а попутно я занимался, писал очень много (написал историю хунну по тем материалам, которые мне прислали, и половину истории древних тюрок, недописанную на воле, тоже по тем данным и книгам, которые мне прислали и которые были в библиотеке)».
В 1956 году Лев Николаевич снова вернулся в Ленинград, где его ждало глубочайшее разочарование при встрече с матерью. Вот как об этом он писал в своей автобиографии: «Когда я вернулся, то тут для меня был большой сюрприз и такая неожиданность, которую я и представить себе не мог. Мама моя, о встрече с которой я мечтал весь срок, изменилась настолько, что я ее с трудом узнал. Изменилась она и физиогномически, и психологически, и по отношению ко мне. Она встретила меня очень холодно. Она отправила меня в Ленинград, а сама осталась в Москве, чтобы, очевидно, не прописывать меня. Но меня, правда, прописали сослуживцы, а потом, когда она, наконец, вернулась, то прописала и она. Я приписываю это изменение влиянию ее окружения, которое создалось за время моего отсутствия, а именно ее новым знакомым и друзьям: Зильберману, Ардову и его семье, Эмме Григорьевне Герштейн, писателю Липкину и многим другим, имена которых я даже теперь не вспомню, но которые ко мне, конечно, положительно не относились. Когда я вернулся назад, то я долгое время просто не мог понять, какие же у меня отношения с матерью? И когда она приехала и узнала, что я все-таки прописан и встал на очередь на получение квартиры, она устроила мне жуткий скандал: «Как ты смел прописаться?!» Причем мотивов этому не было никаких, она их просто не приводила. Но если бы я не прописался, то, естественно, меня могли бы выслать из Ленинграда как не прописанного. Но тут ей кто-то объяснил, что прописать меня все-таки надо, и через некоторое время я поступил на работу в Эрмитаж, куда меня принял профессор Артамонов, но тоже, видимо, преодолевая очень большое сопротивление».
Директор Эрмитажа М.И.Артамонов взял Льва Николаевича библиотекарем «на ставку беременных и больных». Работая там библиотекарем, Гумилёв завершил работу над докторской диссертацией «Древние тюрки» и защитил её. После защиты докторской диссертации Гумилёва ректор ЛГУ член-корреспондент А.Д.Александров пригласил на работу в Научно-исследовательский институт географии при ЛГУ, где он проработал до 1986 года, до выхода на пенсию - сперва научным работником, потом - старшим научным работником. Перед выходом на пенсию его перевели в ведущие научные сотрудники. Кроме работы в НИИ он вел курс лекций в ЛГУ по «Народоведению». Позже Гумилёв рассказывал: «Меня приняли не на исторический факультет, а на географический в маленький Географо-экономический институт, который был при факультете. И это было мое самое большое счастье в жизни, потому что географы, в отличие от историков, и особенно востоковедов, меня не обижали. Правда, они меня и не замечали: вежливо кланялись и проходили мимо, но ничего дурного они мне так за 25 лет и не сделали. И наоборот, отношения были, совершенно, я бы сказал, безоблачные. В этот период я также очень много работал: оформил диссертацию в книгу «Древние тюрки», которую напечатали потому, что нужно было возражать против территориальных притязаний Китая, и как таковая моя книга сыграла решающую роль. Китайцы меня предали анафеме, а от территориальных притязаний на Монголию, Среднюю Азию и Сибирь отказались. Потом я написал книгу «Поиски вымышленного царства» о царстве пресвитера Иоанна, которое было ложно, выдумано. Я постарался показать, как в исторических источниках можно отличать правду от лжи, даже не имея параллельной версии. Эта книга имела очень большой резонанс и вызвала очень отрицательное отношение только одного человека - академика Бориса Александровича Рыбакова, который написал по этому поводу в «Вопросах истории» статью на 6 страницах, где очень сильно меня поносил. Мне удалось ответить через журнал «Русская литература», который издавал Пушкинский дом, ответить статьей, где я показал, что на этих 6 страницах академик, кроме трех принципиальных ошибок, допустил 42 фактических. И его сын потом говорил: «Папа никогда не простит Льву Николаевичу 42 ошибки». После этого мне удалось написать новую книгу «Хунны в Китае» и завершить мой цикл истории Центральной Азии в домонгольский период. Очень трудно мне было ее печатать, потому что редактор Востокиздата, которого мне дали, - Кунин такой был - он издевался надо мной так, как редактора могут издеваться, чувствуя свою полную безопасность. Тем не менее, книга, хотя и искалеченная, вышла, без указателя, потому что он переменил страницы и испортил даже составленный мною указатель. Книга была напечатана, и таким образом я закончил первую часть трудов своей жизни - белое пятно в истории Внутренней Азии между Россией и Китаем в домонгольский период».
Анна Ахматова и Лев Гумилёв.
С 1959 года труды Льва Николаевича стали печататься небольшими тиражами. В этих условиях он окунулся в работу Ленинградского отделения Всесоюзного географического общества. Через сборники общества ему удалось выпустить в свет ряд своих работ, не допущенных в официальные научные периодические издания. «Этот последний период моей жизни был для меня очень приятным в научном отношении, - писал он - когда я написал свои основные работы по палеоклимату, по отдельным частным историям Центральной Азии, по этногенезу…».
К сожалению, в бытовом плане ситуация для Льва Николаевича складывалась не очень благоприятно. Он по-прежнему ютился в маленькой комнате большой коммунальной квартиры с двенадцатью соседями, и по-прежнему не складывались его отношения с матерью – Анной Ахматовой. Вот что он писал о тех годах своей жизни: «Мать находилась под влиянием людей, с которыми я не имел никаких личных контактов, и даже в большинстве своем не был знаком, но ее они интересовали значительно больше, чем я, и поэтому наши отношения в течение первых пяти лет после моего возвращения неизменно ухудшались, в том смысле, что мы отдалялись друг от друга. Пока, наконец, перед защитой докторской, накануне дня моего рождения в 1961 году, она не выразила свое категорическое нежелание, чтобы я стал доктором исторических наук, и выгнала меня из дома. Это был для меня очень сильный удар, от которого я заболел и оправился с большим трудом. Но, тем не менее, у меня хватило выдержки и сил для того, чтобы хорошо защитить докторскую диссертацию и продолжать свою научную работу. Последние 5 лет ее жизни я с матерью не встречался. Именно за эти последние 5 лет, когда я ее не видел, она написала странную поэму, называемую «Реквием». Реквием по-русски значит панихида. Панихиду по живому человеку считается, согласно нашим древним обычаям, служить грешно, но служат ее только в том случае, когда хотят, чтобы тот, по кому служат панихиду, вернулся к тому, кто ее служит. Это было своего рода волшебство, о котором, вероятно, мать не знала, но как-то унаследовала это как древнерусскую традицию. Во всяком случае, для меня эта поэма была совершеннейшей неожиданностью, и ко мне она, собственно, никакого отношения не имела, потому что зачем же служить панихиду по человеку, которому можно позвонить по телефону. Пять лет, которые я не виделся с матерью и не знал о том, как она живет (так же как она не знала, как я живу, и не хотела, видимо, этого знать), кончились ее смертью, для меня совершенно неожиданной. Я выполнил свой долг: похоронил ее по нашим русским обычаям, соорудил памятник на те деньги, которые остались мне в наследство от нее на книжке, доложив те, которые были у меня - гонорар за книжку «Хунну».
Похороны Анны Ахматовой 10 марта 1966 года. С матерью прощается Лев Гумилёв, слева - поэты Евгений Рейн и Арсений Тарковский, крайний справа - Иосиф Бродский.
В 1974 году Гумилёв защитил вторую докторскую диссертацию, на этот раз по географическим наукам, которую ВАК не утвердил по причине того, что «она выше докторской, поэтому и не докторская». Эта работа, известная под названием «Этногенез и биосфера Земли», спустя 15 лет в 1989 году вышла отдельной книгой и была раскуплена в течение одного-двух дней со склада издательства ЛГУ. Заслуги Льва Гумилёва, как в области научных исследований, так и в педагогической деятельности упорно игнорировались. Это было одной из причин того, что Гумилёв не был удостоен даже звания профессора, и каких-либо правительственных наград или почётных званий. Но, не смотря на все эти неприятности, Лев Николаевич с огромным удовольствием выступал с лекциями и перед студентами и перед обычными слушателями. Его лекции по этногенезу пользовались неизменным успехом. Гумилёв рассказывал: «Обычно студенты часто смываются с лекций (это не секрет, об этом часто ставился вопрос на Ученом совете: как их надо записывать и принуждать к посещению). С моих лекций студенты перестали смываться после второй или третьей лекции. После этого стали ходить сотрудники института и слушать, что я читаю. После этого, когда я уже стал излагать курс более подробно и отработал его в ряде предварительных лекций, ко мне стали ходить вольнослушатели со всего Ленинграда. И наконец, кончилось тем, что меня вызвали в Новосибирск в Академгородок, где я прочел специальный сокращенный курс и имел большой успех: народ приезжал даже из самого Новосибирска в Академгородок (это час езды на автобусе). Народу было так много, что дверь запирали, но так как там в Академгородке все по преимуществу «технари», то они довольно быстро умели открыть этот замок и проходили в помещение. В зал пускали только по билетам, но там были две двери - в одну впускали, другая была закрытая. Так, вошедший подходил к закрытой двери, под нее подсовывал билет, его товарищ брал и снова проходил. Чем я объясняю успех своих лекций? Отнюдь не своими лекторскими способностями - я картавый, не декламацией и не многими подробностями, которые я действительно знаю из истории и которые включал в лекции, чтобы легче было слушать и воспринимать, а той основной идеей, которую я проводил в этих лекциях. Идея эта заключалась в синтезе естественных и гуманитарных наук, то есть я возвысил историю до уровня естественных наук, исследуемых наблюдением и проверяемых теми способами, которые у нас приняты в хорошо развитых естественных науках - физике, биологии, геологии и других науках. Основная идея такова: этнос отличается от общества и от общественной формации тем, что он существует параллельно обществу, независимо от тех формаций, которые оно переживает и только коррелирует с ними, взаимодействует в тех или иных случаях. Причиной образования этноса я считаю особую флуктуацию биохимической энергии живого вещества, открытую Вернадским, и дальнейший энтропийный процесс, то есть процесс затухания толчка от воздействия окружающей среды. Каждый толчок рано или поздно должен затухнуть. Таким образом, исторический процесс представляется мне не в виде прямой линии, а в виде пучка разноцветных нитей, переплетенных между собой. Они взаимодействуют друг с другом разным способом. Иногда они бывают комплиментарны, т. е. симпатизируют друг другу, иногда, наоборот, эта симпатия исключается, иногда это идет нейтрально. Каждый этнос развивается как любая система: через фазу подъема к акматической фазе, т. е. фазе наибольшего энергетического накала, затем идет довольно резкий спад, который выходит плавно на прямую - инерционную фазу развития, и как таковой он затем постепенно затухает, сменяясь другими этносами. К социальным соотношениям, например к формациям, это не имеет прямого взаимоотношения, а является как бы фоном, на котором развивается социальная жизнь. Эта энергия живого вещества биосферы всем известна, все ее видят, хотя отметил ее значение я первый, и сделал я это, размышляя в тюремных условиях над проблемами истории. Я обнаружил, что у некоторых людей в большей или меньшей степени существует тяга к жертвенности, тяга к верности своим идеалам (под идеалом я понимаю далекий прогноз). Эти люди в большей или меньшей степени стремятся к осуществлению того, что для них является более дорогим, чем личное счастье и личная жизнь. Этих людей я назвал пассионариями, а качество это я назвал пассионарностью. Это не теория «героя и толпы». Дело в том, что эти пассионарии находятся во всех слоях того или иного этнического или общественного коллектива, но количество их плавно снижается со временем. Но цели у них иногда бывают единые - правильные, подсказанные нужной в данном случае доминантой поведения, а в ином случае - противоречат им. Поскольку это энергия, то она от этого не меняется, она просто показывает степень их (пассионариев) активности. Эта концепция позволила мне определить, почему возникают подъемы и спады народов: подъемы, когда количество таких людей увеличивается, спады - когда оно уменьшается. Есть посредине оптимальный уровень, когда этих пассионариев столько, сколько нужно для выполнения общих задач государства, или нации, или класса, а остальные работают и соучаствуют в движении вместе с ними. Эта теория категорически противоречит расовой теории, которая предполагает наличие прирожденных качеств, присущих тем или иным народам за все время существования человечества, и «теории героя и толпы». Но герой может вести ее только тогда, когда в толпе он встречает отзвук у людей менее пассионарных, но тоже пассионарных. Применительно к истории эта теория оправдала себя. И именно для того, чтобы понять, как возникли и погибли Древний Рим, Древний Китай или Арабский халифат, ко мне и ходили люди. Что касается применения этого в современности, то это может сделать любой человек, у которого достаточная компетенция в области новой истории, и осознать, какие перспективы есть, скажем, у Западного мира, у Китая, у Японии и у нашей родины России. Дело в том, что к этому я присоединил географический момент - жесткую связь человеческого коллектива с ландшафтом, т. е. понятие «Родина», и со временем, т. е. понятие «Отечество». Это как бы 2 параметра, которые, перекрещиваясь, дают нужную точку, фокус, характеризующий этнос. Что касается нашей современности, я скажу, что, по моей концепции, преимущество пассионарного напряжения стоит на стороне Советского Союза и входящих в него братских народов, которые создали систему, относительно Западной Европы молодую, и поэтому имеют больше перспектив для того, чтобы устоять в той борьбе, которая время от времени с XIII века возникала и, видимо, будет возникать и дальше. Но о будущем я говорить, естественно, не могу...».
Непростой ситуацией оказалась история с наследством Анны Ахматовой, за которое Льву Николаевичу пришлось судиться три года, потратив немало сил и здоровья. Лев Гумилёв рассказывал: «После смерти моей матери зашел вопрос о ее наследии. Единственным наследником был признан я, тем не менее, все имущество моей матери, как вещи, так и то, что дорого для всего Советского Союза - ее черновики, было захвачено ее соседкой Пуниной (по мужу Рубинштейн) и присвоено ею себе. Так как я обратился в Пушкинский дом и предложил принять на хранение в архив все литературное наследство моей матери, то Пушкинский дом подал в суд, от которого почему-то довольно быстро отошел, предоставив вести суд мне лично, как обиженному человеку. Три года длился этот процесс, причем захват Пуниной этого имущества и продажа, или, вернее, распродажа его в разные советские учреждения (далеко не полностью, часть она оставила себе), он вызвал осуждение в Ленинградском городском суде, который постановил, что деньги получены Пуниной незаконно. Но почему-то Верховный суд РСФСР, судья Пестриков, объявил, что суд считает, что все украденное подарено, и постановил, что я никакого отношения к наследству своей матери не имею, потому что она все подарила Пуниной, несмотря на то, что не только документа на это не было, но и сама Пунина этого не утверждала. Это произвело на меня очень тяжелое впечатление и значительно повлияло на мою работу в смысле ее эффективности».
В 1967 году судьба подарила Льву Николаевичу знакомство с художником-графиком из Москвы Наталией Викторовной Симоновской. Она была известным художником-графиком, членом МОСХа, но оставила уютный быт в Москве и разделила со Львом Гумилёвым двадцать пять лет травли, слежки и замалчивания его трудов. И все эти годы была рядом, жила его миром, между его настоящими и мнимыми друзьями, истинными и псевдоучениками, «наблюдателями» и просто любопытствующими. Кормила и поила всех приходящих ко Льву Николаевичу. Расстраивалась, когда предавали ученики, когда не печатали и уродовали правками книги мужа. Она была не только женой и другом, но и соратником. В интервью она рассказывала: «Мы познакомились со Львом Николаевичем в 1969 году. Наша жизнь началась в жутком «клоповнике» - куммуналке, каких уже нет даже в Петербурге. Мы прожили вместе счастливую жизнь. Это не противоречит тому, что я написала: счастливую - и трагическую. Да, его всю жизнь беспокоила и манила истина. Историческая – и он пустился на поиски ее, написав много книг. И человеческая – потому что он верующий и очень богословски одаренный человек, понимал, что человек подвержен влиянию страстей и искушению дьявола, но что Божественное в нем должно побеждать».
Лев Гумилёв на прогулке с женой Натальей Викторовной.
В конце жизни Лев Николаевич писал в своем Автонекрологе: «Единственное мое желание в жизни (а я сейчас уже стар, мне скоро 75 лет) - это увидеть мои работы напечатанными без предвзятости, со строгой цензурной проверкой и обсужденными научной общественностью без предвзятости, без вмешательства отдельных интересов тех или иных влиятельных людей или тех глупых, которые относятся к науке не так, как я, то есть использующих ее для своих личных интересов. Они вполне могут оторваться от этого и обсудить проблемы правильно - они достаточно для этого квалифицированы. Услышать их беспристрастные отзывы и даже возражения - это последнее, что я хотел бы в своей жизни. Разумеется, обсуждение целесообразно в моем присутствии, по процедуре защиты, когда я отвечаю каждому из выступающих, и при лояльном отношении присутствующих и президиума. Тогда я уверен, что те 160 моих статей и 8 книг общим объемом свыше 100 печатных листов получат должную оценку и послужат на пользу науке нашего Отечества и ее дальнейшему процветанию».
Льва Николаевича Гумилёва лишь условно можно назвать историком. Он - автор глубоких, новаторских исследований по истории кочевников Срединной и Центральной Азии в период с III века до нашей эры по XV век нашей эры, исторической географии - изменения климата и ландшафта того же региона за тот же период, создатель теории этногенеза, автор проблем палеоэтнографии Средней Азии, истории тибетских и памирских народов в I тысячелетии нашей эры. В его трудах огромное внимание было уделено проблеме Древней Руси и Великой Степи, освещаемое с новых позиций.
К сожалению, с поэтическим наследием Льва Николаевича широкая публика познакомилась только недавно. И это - неудивительно, потому что поэтическим творчеством Гумилёв занимался только в молодости – в 1930 годы и позже, в Норильском лагере, в 1940-е годы. Вадим Кожинов писал: «Несколько опубликованных стихотворений в последние годы его (Л.Н.Гумилёва) не уступают по своей художественной силе поэзии его прославленных родителей» - то есть классиков русской литературы Николая Гумилёва и Анны Ахматовой.
Качается ветхая память
В пространстве речных фонарей
Стекает Невой мех камнями,
Лежит у железных дверей.
Но в уличный камень кровавый
Ворвались огни из подков
И выжгли в нем летопись славы
Навек отошедших веков.
Сей каменный шифр разбирая
И смысл узнавая в следах,
Подумай, что доля святая
И лучшая – память в веках.
1936 год.
Одно из его стихотворений «Поиски Эвридики» было включено в антологию русской поэзии XX века «Строфы века» под редакцией Евгения Евтушенко.
ПОИСКИ ЭВРИДИКИ
Лирические мемуары
Вступление.
Горели фонари, но время исчезало,
В широкой улице терялся коридор,
Из узкого окна ловил мой жадный взор
Бессонную возню вокзала.
В последний раз тогда в лицо дохнула мне
Моя опальная столица.
Все перепуталось: дома, трамваи, лица
И император на коне.
Но все казалось мне: разлука поправима.
Мигнули фонари, и время стало вдруг
Огромным и пустым, и вырвалось из рук,
И покатилось прочь – далеко, мимо,
Туда, где в темноте исчезли голоса,
Аллеи лип, полей борозды.
И о пропаже мне там толковали звезды,
Созвездья Змия и созвездья Пса.
Я думал об одном средь этой вечной ночи,
Средь этих черных звезд, средь этих черных гор -
Как милых фонарей опять увидеть очи,
Услышать вновь людской, не звездный разговор.
Я был один под вечной вьюгой -
Лишь с той одной наедине,
Что век была моей подругой,
И лишь она сказала мне:
“Зачем вам трудиться да раниться
Бесплодно, среди темноты?
Сегодня твоя бесприданница
Домой захотела, как ты.
Там бредит созвездьями алыми
На окнах ушедший закат.
Там ветер бредет над каналами
И с моря несет аромат.
В воде, под мостами горбатыми,
Как змеи плывут фонари,
С драконами схожи крылатыми
На вздыбленных конях цари”.
И сердце, как прежде, дурманится,
И жизнь весела и легка.
Со мною моя бесприданница -
Судьба, и душа, и тоска.
1936 год.
Список таких авторитетных отзывов можно было бы и продолжить. Правда, сам Лев Николаевич не очень ценил свой поэтический талант, а, может быть, и не хотел, чтобы его сравнивали с его родителями. Поэтому значительная часть его творческого наследия оказалась утраченной. Но в конце своей жизни Лев Николаевич вернулся к этой стороне своего творчества и даже задумывал опубликовать кое-что из своих поэтических произведений. Обладая феноменальной памятью, Гумилёв восстановил их, расположив по циклам. Но выполнить этот свой замысел он не успел, и при его жизни были опубликованы лишь две поэмы и несколько стихотворений, да и то - в малотиражных, практически недоступных для широкого читателя сборниках. К 90-летию со дня рождения Льва Гумилёва в Москве вышел сборник «Чтобы свеча не погасла», в который впервые наряду с культурологическими статьями и эссе вошла большая часть его поэтических произведений. Однако ни одного полного собрания его литературных произведений так до сих пор и не появилось, хотя он был великолепным знатоком русской литературы вообще, и поэзии - в частности. Не зря он сам себя однажды назвал «последним сыном Серебряного века». Лев Гумилёв довольно много занимался также и стихотворными переводами, в основном, с языков Востока. Это была работа, которую он делал, главным образом, для заработка, но, тем не менее, относился к ней очень серьезно. В свое время его переводы заслужили похвальные отзывы некоторых известных поэтов. Но они также были напечатаны в малотиражных сборниках и поэтому не очень доступны широкой аудитории.
В 1990 году Лев Гумилёв перенес инсульт, но продолжал работать. Сердце Льва Николаевича остановилось 15 июня 1992 года.
Лев Гумилёв был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
После смерти мужа Наталья Викторовна заботилась об увековечении его имени и развитии идей, вошла в попечительский совет Фонда Льва Николаевича Гумилёва. Беспокоясь о научном продолжении этнологических исследований, участвовала, пока позволяло здоровье, в проведении Гумилёвских чтений, регулярно устраиваемых Фондом в Санкт-Петербургском государственном университете. Она успела оставить воспоминания о жизни со Львом Николаевичем. Став наследницей авторских прав на труды Гумилёва, она оказалась в непростой ситуации с изданием его трудов. Идеи Гумилёва, при его жизни замалчиваемые, после смерти стало возможным обратить в деньги, и использовать в политических играх. Интересы многих людей пересеклись на его рукописях, Наталья Викторовна и ученики Гумилёва оказались в средоточии этих конфликтов. Результатом стали многочисленные неакадемические издания ученого. И - пренебрежение к его памяти. Достаточно сказать, что памятник на кладбище и мемориальную доску на доме, где он жил, установили благотворители (мэрия Санкт-Петербурга и постпредство Татарстана в СПб). Наталья Викторовна передала квартиру Льва Николаевича городу для организации в ней не просто музея, но и научного центра. Она мечтала, чтобы идеи мужа жили и работали для нашей многонациональной страны. Однако пока научного центра нет, а есть филиал при Музее Анны Ахматовой, и есть опасность, что научные труды Льва Гумилёва затеряются под грузом поэтического наследства великой матери. И для потомков не будет ученого Льва Гумилёва, а лишь герой «Реквиема»...
4 сентября 2004 года Наталья Викторовна скончалась на 85-м году жизни, и урна с ее прахом была захоронена рядом с могилой ее мужа.
В августе 2005 года в Казани Льву Гумилёву был поставлен памятник. По инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1996 году в казахской столице Астане именем Гумилёва был назван один из ведущих вузов страны, Евразийский Национальный университет имени Льва Гумилёва. В 2002 году в стенах университета был создан кабинет-музей Льва Гумилёва. Также имя Льва Гумилёва носит средняя школа № 5 города Бежецка Тверской области.
Бежецк. Николай Гумилёв, Анна Ахматова и Лев Гумилёв.
О Льве Гумилёве был снят документальный фильм «Преодоление хаоса».
Your browser does not support the video/audio tag.
Текст подготовила Татьяна Халина
Использованные материалы:
Материалы сайта www.levgumilev.spbu.ru
Л.Н.Гумилёв «Автонекролог»
Материалы сайта www.gumilevica.kulichki.net
Материалы сайта www.kulichki.com
Лурье Я.С. Древняя Русь в сочинениях Льва Гумилёва. Научно-просветительский журнал «Скепсис». Опубликовано в журнале «Звезда», 1994
Сергей Иванов «Лев Гумилёв как феномен пассионарности» - Неприкосновенный запас. - 1998. - № 1.
Личная жизнь и наследие этого историка представляют большой интерес для широкого круга людей. Он примечателен и как ученый, и как сын великих поэтов. Вот два основных повода познакомиться с ним поближе.
Гумилев Лев - русский историк, этнолог, доктор географических и исторических наук. Он является автором учения об этносах и человечестве как о биосоциальных категориях. Лев Николаевич изучал этногенез, его биоэнергетическую доминанту, которую он назвал пассионарностью.
Происхождение и детство
1912 г. в Царском Селе на свет появился Гумилев Лев Николаевич. Краткая биография его примечательна уже тем, что его родителями были великие русские поэты А. А. Ахматова и Н. С. Гумилев. Брак Гумилевых распался в 1918 году, и после этого мальчик жил то со своей матерью, то у бабушки в Бежецке. Известно, что его отношения с Анной Андреевной всегда были непростыми. На фото ниже - Лев Гумилев со своими родителями.

Обучение и аресты, участие в войне
Лев Николаевич в 1934 году поступил в Ленинградский государственный университет, на исторический факультет. Однако уже по окончании первого курса он был первый раз арестован. Вскоре Льва Гумилева освободили, но ему так и не удалось окончить университет. Уже на 4-м курсе, в 1938 году, он вновь был арестован за участие в студенческой террористической организации. Гумилев был приговорен к 10 годам лагерей. Позднее его участь была смягчена. Льву Николаевичу следовало отбыть 5-летний срок в Норильске. По прошествии этого времени, в 1943 году, он работал по найму в Туруханске и под Норильском. Тогда же Гумилев отправился на фронт. Он воевал зенитчиком вплоть до победы. До самого Берлина дошел Гумилев Лев Николаевич. Краткая биография этого деятеля науки, как вы видите, отмечена не только достижениями в области истории.
Защита первой диссертации

Лев Николаевич в 1946 году сдал экстерном экзамены в университете, а затем продолжил образование в Институте востоковедения АН СССР, где учился в аспирантуре. Его кандидатская диссертация была уже готова, однако в 1947 году ученый был отчислен из института из-за постановления о журналах "Ленинград" и "Звезда", принятом ЦК ВКП(б). В этом постановлении осуждалось творчество Анны Андреевны Ахматовой. Несмотря на все трудности, Льву Николаевичу все-таки удалось защитить диссертацию благодаря поддержке научных кругов Ленинграда.
Новый арест
В 1949 году вновь был арестован Гумилев Л. Н. Краткая биография его, как вы видите, изобилует арестами. Его освободили лишь в 1956 году и тогда же полностью реабилитировали. Оказалось, что состава преступления в действиях Гумилева не обнаружено. Всего Лев Николаевич был арестован 4 раза. В общей сложности ему пришлось провести в сталинских лагерях 15 лет.
Докторские диссертации и публикации Гумилева

Возвратившись в Ленинград, Гумилев устроился на временную работу в Эрмитаж. В 1961 году он успешно защитил свою докторскую диссертацию на тему "Древние тюрки VI-VIII вв.". Затем ученого взяли на работу в институт географии, расположенный при географическом факультете ЛГУ. Здесь он проработал до выхода на пенсию, который состоялся в 1986 году.
Географическую докторскую диссертацию Гумилев Лев защитил в 1974 году. Однако аттестационная комиссия его степень не утвердила. Рукопись труда Гумилева "Этногенез и биосфера Земли" было запрещено публиковать, однако она распространялась в самиздате.

Лишь в 1959 году стал активно публиковаться Лев Гумилев. Биография и творчество его не случайно вызывают большой интерес в ученых кругах. Ему принадлежит более 220 работ, включая несколько монографий. В постсталинское время взгляды Льва Гумилева критиковались в официальных изданиях, однако на него уже не было никаких гонений. Только в начале 1980 гг. был ненадолго остановлен поток его публикаций. Льву Гумилеву пришлось обратиться с этим вопросом в Он написал письмо по поводу запрета своих публикаций. Д. С. Лихачев и другие историки того времени поддержали его.
Личная жизнь
Несколько романов пережил за свою жизнь Лев Гумилев. Биография, семья и дети - все это интересует его поклонников. На личной жизни Льва Николаевича мы не будем подробно останавливаться. Однако самые важные факты отметим. В 1967 Гумилев женился на Н. В. Симоновской, художнице (годы жизни - 1920-2004). Он познакомился с ней в июне 1966 года. Супруги прожили вместе 24 года, вплоть до смерти Льва Николаевича. По мнению окружающих, этот брак был идеальным. Супруга посвятила Гумилеву всю свою жизнь. Она оставила старый круг знакомых и работу. На выбор Льва Николаевича повлияло и его желание не иметь детей: в то время его избраннице было 46 лет, а ему самому - 55.
Взаимоотношения со славянофилами и националистами
Необычайный взлет популярности Гумилева произошел в постсоветскую эпоху. Его книги были изданы громадными тиражами. Политические взгляды этого ученого, которые он выражал в радио- и телепередачах, в публицистических статьях были одновременно антизападными и антикоммунистическими. Это делало его фигуру символом антилиберализма. Тезис Льва Николаевича о "славяно-тюркском симбиозе" был подхвачен славянофилами на рубеже 90-х гг. Эти люди негативно относились к взглядам ученого на ордынское иго, весьма, кстати, скептическим. Вышеупомянутый тезис был подхвачен славянофилами как обоснование новой идеологии Российского государства. Националисты тюркоязычных народов, населявших СССР, также ссылались на Льва Николаевича. Для них Гумилев Лев был непререкаемым авторитетом.
"Теория этногенеза" и естественные науки
Гумилев считал себя "последним евразийцем". Тем не менее созданная им "теория этногенеза" напоминала евразийство только в общих чертах. С точки зрения такой науки, как история, размышления ученого нельзя считать теорией. Однако Гумилев Лев обращался в первую очередь к советской технической интеллигенции, а не к коллегам-историкам. К тому времени у технической интеллигенции созрело убеждение в том, что в Советском Союзе история - это инструмент пропаганды, а не наука, что она фальсифицирована. Исторические гипотезы Льва Николаевича вызывали скептицизм ученых, поскольку не подтверждались. Однако "теория этногенеза" в глазах почитателей Гумилева нисколько от этого не проигрывала. Лев Николаевич судил об истории с позиции естественных наук, а их научная интеллигенция считала менее скомпрометированными, чем гуманитарные.
Основные положения теории Гумилева

Гумилев создал свою теорию, пытаясь уяснить, почему в эпоху Средневековья и античности в Великой Степи наблюдались волнообразные и быстрые этнические процессы. Они, действительно, нередко были, так или иначе, связаны с изменением климатических условий. Поэтому в какой-то степени увязывание ученым ландшафта и этноса оправдано. Тем не менее "теория этногенеза" потеряла убедительность в результате абсолютизации Гумилевым роли природных факторов. Термин "пассионарность", принадлежащий Льву Николаевичу, начал жить собственной жизнью. Ученый использовал его для обозначения первоначального этнического активизма. Однако сейчас этот термин не имеет общего с гумилевской "теорией этногенеза".

15 июня 1992 г. в Санкт-Петербурге умер Лев Гумилев. Биография, семья и наследие ученого были вкратце нами рассмотрены. Теперь вы знаете, благодаря чему обрел большую популярность сын двух великих русских поэтов.
Издательство благодарит за предоставленные материалы Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-Петербург.
Приносим также благодарность Гелиану Михайловичу Прохорову за использование фотографий и писем из его личного архива.
Выражаю сердечную благодарность всем, кто помогал мне в работе над этой книгой.
Прежде всего назовуГелиана Михайловича Прохорова,
первого ученика Льва Николаевича,
и Марину Георгиевну Козыреву,
создателя и хранителя Музея-квартиры Л.Н. Гумилева.
Без материалов, собранных и опубликованных ими, эта книга многое бы потеряла.
Выражаю свою признательность Нине Ивановне Поповой,
директору Музея Анны Ахматовой,
и сотрудникам – Ирине Геннадьевне Ивановой
и Марии Борисовне Правдиной,
предоставившим в мое распоряжение уникальные материалы из архива ученого.
Большое спасибо поэту и математику Владимиру Губайловскому
и биологу Елене Наймарк за научные консультации.
От души благодарю Ольгу Геннадьевну Новикову,
хотя и понимаю, что эта книга не понравится ни ей, ни многим ученикам и последователям Льва Гумилева.
Вместо предисловия
Сохранившиеся фотографии Льва Гумилева озадачивают. Кажется, что иногда вместо него фотографировались совсем другие люди. Мемуарные свидетельства не объясняют, не рассеивают этого странного впечатления.
«Лева так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нем почти нет», – не раз говорила Ахматова. С ней соглашалась Лидия Чуковская, несколько дополняя портрет молодого Льва: «В последний раз я видела Леву, если не ошибаюсь, в 32 году <…> Это был юноша лет 17–19, некрасивый, неловкий, застенчивый, взглядом сильно напоминающий отца».
«Как вы похожи на отца», – с этих слов началось лагерное знакомство физика Сергея Штейна, будущего писателя-фантаста Сергея Снегова, и Льва Гумилева. Гумилеву-младшему вообще очень льстило, если другие находили в нем сходство с отцом. На фотографиях 1926–1927 годов, сделанных Пуниным, подросток Лев и в самом деле очень похож на Николая Степановича.
На студенческой фотографии 1934-го его сразу не узнать. Аккуратно одетый и хорошо причесанный молодой человек с почти детским лицом. Повзрослевший Левушка-Гумилевушка с фотографии 1915 года. Чистый, неиспорченный мальчик. Эмма Герштейн назвала лицо Гумилева «детским», значит, фотограф в 1934 году не исказил его облика.
В 1936-м Руфь Зернова, студентка филфака ЛГУ, описывала Гумилева как светловолосого молодого человека «с аккуратным бледным лицом». Монгольская аспирантка Очирын Намсрайжав запомнила его «молодым, красивым сероглазым юношей».
Домашний мальчик, воспитанный бабушкой-дворянкой, в сталинском Советском Союзе выжить не мог. Он должен был исчезнуть. И он исчез.
Зимой 1987 года в ленинградскую квартиру доктора исторических наук Гумилева пришел корреспондент казанского журнала «Чаян» Гафазль Халилуллов. На звонок дверь открыл сам Лев Николаевич, человек «среднего роста, крепкий, с лицом и телом старого гладиатора».
К сожалению, многие фотографии не сохранились, а в мемуарах – пробелы. Сейчас уже не восстановить утраченные звенья, ведь все, кто знал Льва Гумилева в молодости, давно ушли из жизни.
Передо мной фотография, сделанная осенью 1944-го для военкомата в Туруханске. Это совсем другой человек, ироничный и грустный. Не только постаревший, это понятно: он уже пережил тюрьму и лагерь, – а именно другой. Криминалист, сопоставляя фотографии 1934-го и 1944-го, и тот, верно бы, запутался и приписал их разным людям.
Новая черта – горбинка на носу – сразу сделала Льва похожим на мать. Гумилев после войны рассказывал всем знакомым, будто горбинка – что-то вроде фронтового ранения: во время немецкого минометного обстрела разнесло какую-то дощатую постройку, отлетевшей доской ему и перебило нос. О фронтовом ранении дружно сообщают все знакомые Гумилева, но, судя по фотографии, нос ему перебили не на войне, а в лагере. В Норильске или еще раньше, в Белбалтлаге, а еще вероятнее – в кабинете следователя.
Лев Николаевич «обладал очень выразительным, красивым лицом, крупными серыми глазами, в небольшой степени раскосыми, носом с очень небольшой горбинкой, красивой формой рта…» – вспоминала Елена Херувимова (Вигдорчик), работавшая с Гумилевым в экспедиции на Хантайском озере в 1943 году.
После войны Гумилев еще несколько раз поменяет свою внешность. С фотографии декабря 1949 года (из следственного дела) на нас глядит довольно молодое лицо кавказской национальности, бритоголовый абрек. Два года спустя (фото из лагеря под Карагандой) Гумилев напоминает старика-узбека или казаха.
За этими чужими, как будто непохожими на Гумилева лицами – потерянные годы тюрем и лагерей, вынужденное, не по его воле, отступление от избранного пути. Несколько раз он пытался переломить судьбу. И в 1944-м, когда из тылового Туруханска ушел добровольцем на фронт, и в 1948-м, когда вопреки обстоятельствам все-таки защитил диссертацию, и в 1953–1956-м, в лагерные еще годы, когда нашел в себе силы вернуться в науку.
Николая Гумилева невозможно представить старым. Лев Гумилев, старея, терял сходство с оставшимся навеки молодым отцом. Зато всё отчетливее в его облике проступали ахматовские черты. Впервые на сходство матери и сына обратил внимание художник Александр Осмеркин еще зимой 1938 года: «У него капризная линия рта, как у Анны Андреевны».
В конце пятидесятых его сходство с матерью замечали все.
Свидетельство Н.И. Казакевич, сотрудницы библиотеки Государственного Эрмитажа, вторая половина 1950-х: «Сходство Л.Н. с матерью было несомненным, но он был лишен ее величавости».
Свидетельство А.Н. Зелинского, участника Астраханской археологической экспедиции, август или начало сентября 1959-го: «…внешность… менее всего вязалась с легендарным образом Николая Гумилева. Среднего роста, может быть, даже ниже среднего, плотного телосложения, с горбатым ахматовским носом, с покатой, сутулой спиной, он сидит против меня и непрерывно курит».
Из дневниковых записей Георгия Васильевича Глекина, биолога, биофизика. 1 октября 1959-го: «Вчера был у А.А. Познакомился с Львом Николаевичем. Очень странно, когда, пожимая вам руку, говорят: “Гумилев”… Он невысокого роста человек, с приветливыми, но очень грустными глазами. Чертами лица скорее напоминает мать».
Из мемуаров Аллы Демидовой: «Лев Николаевич Гумилев – абсолютная Ахматова, он к старости очень стал на нее похож».
Гумилев в старости напоминал Анну Андреевну не только внешностью, но и голосом, у него был почти такой же тембр, что и у матери. Все, кто слушал записи Ахматовой и смотрел видеолекции Гумилева, со мной наверняка согласятся.
Последние тридцать лет жизни Гумилева фотографировали часто, на всех фотографиях сходство с Ахматовой очевидно, только вот оно совсем не радовало Льва Николаевича.
Часть I
Гнездо на ветру
Это был долгожданный ребенок. Брак старшего сына Дмитрия, к огорчению Анны Ивановны Гумилевой, оказался бездетным. К осени 1912 года в семье младшего, Николая, ждали наследника. Почему-то все были уверены, что родится мальчик. Николай Степанович, узнав о беременности жены, повез ее в Италию от сырой весны, от пронизывающих балтийских ветров. Итальянское солнце казалось панацеей от телесных и душевных недугов. Об этой поездке сведений почти не сохранилось, только маршрут: Генуя – Пиза – Флоренция. Из Флоренции Николай Степанович один отправился в Рим и Сиену, потом вернулся, и они с Анной посетили Болонью, Падую, Венецию.
Вопреки надеждам, итальянское солнце холодноватых отношений между супругами не согрело.
Под этими строчками Ахматовой дата: 1912, май, Флоренция.
Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный…
В эти же майские дни появились стихи Ахматовой, необъяснимые, поразительные своим трагическим диссонансом с реальностью, казалось бы, вполне благополучной.
Что это? Просто литературный сюжет? Но откуда эти мрачные видения? Может быть, предчувствие будущей трагической судьбы? Век войн и революций уже надвигался, и мирной жизни было отмерено всего два года.
Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном,
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.Был он грустен или тайно-весел,
Только смерть – большое торжество.
На истертом красном плюше кресел
Изредка мелькает тень его.И, пророча близкое ненастье,
Низко, низко стелется дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.
В Россию возвращались через Вену, Краков и Киев. В Киеве Анна Андреевна осталась погостить у матери. Потом отправилась в Литки (Подольская губерния), имение своей кузины. Николай Степанович поехал в Петербург, затем – в Москву, по литературным делам. Но в начале июня он уже был у матери, в Слепневе, откуда писал жене: «…мама нашила кучу маленьких рубашечек, пеленок…»
Вторую половину июля и начало августа Николай и Анна провели в Слепневе. Тогда за Ахматовой внимательно наблюдала двенадцатилетняя Елена, внучатая племянница Анны Ивановны Гумилевой. По ее воспоминаниям, Ахматова была «укутана в шаль и ходила тихими шагами со своей очень симпатичной бульдожкой Молли. Держалась она очень уединенно». Анна своих привычек не меняла, вставала поздно, строгому распорядку слепневского дома не следовала. Но все относились к ней доброжелательно, оберегали, в буквальном смысле на руках носили. Ей трудно было подниматься по крутой лестнице, и Анна Ивановна поручила Коле-маленькому, если Коли-большого рядом не будет, носить Анну вверх и вниз на руках. Коля-маленький, племянник Николая Степановича, был тогда рослым и сильным юношей; не пройдет и года, как оба Николая отправятся в Абиссинию.
Даже слепневские крестьяне стали не только свидетелями, но и участниками больших ожиданий в господском доме. На сельском сходе им обещали простить долги, если родится наследник. Забегая вперед, скажем, что Анна Ивановна Гумилева обещание сдержала.
Мальчик увидел свет 18 сентября (1 октября по новому стилю) 1912 года в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии Васильевского острова. Через несколько дней ребенка перевезли в Царское Село, в дом Гумилевых на Малой, 63. В семье был праздник, пили шампанское за счастливое событие.
Ребенка крестили в Екатерининском соборе Царского Села 7 октября по старому стилю. Ему дали имя Лев.
Жена Дмитрия Гумилева, тоже Анна Андреевна, в девичестве Фрейганг, утверждала, что ребенок с первого дня был «всецело предоставлен» бабушке, она его «выходила, вырастила и воспитала». Все-таки не с первого дня, а постепенно – естественно, с молчаливого согласия родителей. Тут стоит внимательно прочитать воспоминания Валерии Сергеевны Срезневской, подруги Ахматовой с гимназических лет, когда они были еще Аней Горенко и Валей Тюльпановой. Считается, что мемуары отредактированы самой Ахматовой, если не написаны под ее диктовку. Во всяком случае, это версия Ахматовой, и она кажется убедительной.
Из воспоминаний Срезневской: «Рождение сына очень связало Анну Ахматову. Она первое время сама кормила сына и прочно обосновалась в Царском». Но понемногу «Аня освобождалась от роли матери в том понимании, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке: там были бабушка и няня».
Так было принято среди женщин их круга. Кроме того, Анна уже тогда была Ахматовой. В марте 1912 года вышел сборник ее стихов «Вечер» и принес ей известность. Ахматова прислушивалась к себе, к своему дару и очень быстро вернулась к жизни литературной богемы Петербурга.
Возможно, Ахматова стала матерью слишком рано. В двадцать три года. Она не захотела менять привычный образ жизни.
Из биографической прозы Анны Ахматовой. «Смешили мы (Ахматова и Осип Мандельштам. – С.Б. ) друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на “Тучке” (комната Гумилева в Петербурге, в Тучковом переулке, 17, кв. 29. – С.Б. ) и хохотали так до обморочного состояния, как кондитерские девушки в “Улиссе” Джойса».
Позднее, в двадцатые годы, Ахматова будет забавлять маленькую еще Иру Пунину, звонить ей от имени собаки Тапа и лаять (Ира сначала не сомневалась, что звонил именно Тап). В тридцатые Анна Андреевна много занималась с соседскими детьми, Валей и Вовой («шакаликом»). В сороковые стала нянчиться с Аней Каминской. Но эти дети росли рядом, а Лева почти всегда оказывался далеко.
Николай Степанович тоже был доволен, вспоминает Срезневская, что «его сын растет под крылом, где ему самому было так хорошо и тепло». Так будет и дальше. Забегая вперед, приведем фрагменты писем Ахматовой Николаю Гумилеву лета 1914 года. Еще не началась война.
«Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. <…> В июльской книге “Нового слова” меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. <…> Целую, твоя Аня». К письму приложены стихи: «Моей наследницею полноправной будь…» и «Целый год ты со мной неразлучен…» (13 июля 1914 года).
«Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. <…> Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. <…> Хорошо, если с “Четок” что-нибудь получим <…> С недобрым чувством жду июльскую “Русскую мысль”. Вероятнее всего, там свершат надо мною страшную казнь Valere <…> Будь здоров, милый! Целую. Твоя Анна. Левушка здоров и всё умеет говорить». К письму приложено стихотворение «Подошла я к сосновому лесу» (17 июля 1914 года).
Перед нами письма поэта. Обращается Ахматова тоже к поэту, а не к отцу своего ребенка.
Роль бабушки в жизни Левы так велика, что необходимо сделать небольшое отступление. В год рождения Левы Анне Ивановне Гумилевой исполнилось пятьдесят восемь лет. Она была «хороша собой, – пишет Е.Б. Чернова, внучатая племянница А.И. Гумилевой, – высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами…». Анна происходила из мелкопоместных дворян Львовых. Лев Гумилев в конце жизни утверждал: «…Гумилевы, каста военных, были священники, но в основном военные, морские и сухопутные офицеры и разведчики». На самом деле его слова относились скорее к семье Львовых. Степан Яковлевич Гумилев, дед Льва Николаевича, был военным в первом поколении.
Анна Львова провела детство, юность и молодость (до замужества) в Слепневе (Тверская губерния), родовом имении Львовых. В семье была младшей. Рано потеряла родителей. Ей было восемь лет, когда умер отец. А через три года умерла мать. Образование получила домашнее, с гувернанткой. Очень любила родной дом, кабинет отца, где на стенах висели географические карты, а в шкафу стояли книги с описаниями военных кораблей и морских сражений. Библиотека в доме была замечательная, собиралась несколькими поколениями Львовых. Анна много читала, больше всего – русские и французские романы. Французским языком владела свободно. Любила гулять по слепневскому парку и окрестностям усадьбы. Возможно, на ее характер, спокойный и уравновешенный, неизменную доброжелательность повлияла окружающая природа. Повзрослевший внук Анны Ивановны, Лев Гумилев, установит связь между психологическим состоянием человека и ландшафтом, он же отметит умиротворяющий характер природы Тверского края: «…этот якобы скучный ландшафт, очень приятный и необременительный, эти луга, покрытые цветами, васильки во ржи, незабудки у водоемов, желтые купальницы – они некрасивые цветы, но они очень идут к этому ландшафту. Они незаметны, и они освобождают человеческую душу».
Брак Анны Львовой и Степана Яковлевича Гумилева мемуаристы называют неравным: двадцатидвухлетняя потомственная дворянка и сорокалетний корабельный врач, сын сельского дьячка, вдовец с дочерью семи лет. Между тем Анна Львова послушала совета своего старшего брата (Лев Иванович познакомил ее с Гумилевым) и приняла решение, о котором никогда не жалела. Этот тип женщины любим русской литературой: пушкинская Татьяна, тургеневские девушки. Анна никогда не тяготилась сельским уединением, не любила праздности, была лишена кокетства. Она сочувствовала семейному горю Степана Яковлевича, жалела его осиротевшую дочь. С желания помочь и сострадания началась любовь.
Анна Ивановна легко вошла в роль хозяйки дома. Степан Яковлевич надолго уходил в плавание, после отставки часто и тяжело болел. Так получилось, что дом держался на ней. Все, кто знал Анну Ивановну, называли ее властной и умной. Она умела разбираться в людях. Казалось бы, ей, воспитанной в патриархальных традициях, невозможно принять характер и образ жизни Ахматовой. Между тем Ахматову не приняли как раз ее ровесницы. Довольно неприязненно пишет об Ахматовой А.А. Гумилева (Фрейганг): «В дом влилось много чуждого элемента». Как успела дворянка за несколько лет усвоить советскую фразеологию! Ей вторит соседка Гумилевых, Вера Андреевна Неведомская: «…в семье мужа она чужая».
Анна Ивановна, несмотря на разницу в возрасте и воспитании, приняла Ахматову как родную дочь. Между ними всю жизнь сохранялись родственные сердечные отношения.
Из писем Анны Гумилевой к Анне Ахматовой: «Анечка, дорогая моя», «я рада, что ты поправилась, моя родная», «голубчик», «горячо любящая тебя мама».
Из писем Анны Ахматовой к Анне Гумилевой:
«Дорогая мама, эти деньги исключительно для того, чтобы ты наняла человека для работы по дому и сама больше ни с чем не возилась».
«Дорогая мамочка! Не надо ли прислать чего-нибудь в посылке (муки, сахара, чая, мыла), может быть, какое-нибудь лекарство Левушке? Твоя Аня».
Наконец, слово самому Льву Гумилеву: «Бабушка была ангелом доброты и доверчивости и маму очень любила».
Первые шаги маленького Левы связаны с царскосельским домом Гумилевых. Анна Ивановна купила его летом 1911 года. Дом был деревянный, двухэтажный, с небольшим палисадником.
«Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. Два этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри – тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены. Библиотека в широких диванах. Книжные полки до потолка… Комнат много, какие-то всё кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли…
Тишину вдруг прорезывает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке. Тот самый:
«“Розовый друг” хлопает крыльями и злится», – вспоминал поэт Георгий Иванов.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.
На первом этаже были комнаты Николая Степановича и Ахматовой, Дмитрия и его жены, а также гостиная, столовая и библиотека. На втором этаже жили Анна Ивановна, Александра Степановна Сверчкова, дочь Степана Яковлевича Гумилева от первого брака, с детьми Николаем и Марией. Здесь же, на втором этаже, устроили детскую для Левы и его няни.
Из воспоминаний А.А. Гумилевой (Фрейганг): «Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем».
А вот Лев Николаевич в поздних интервью с сожалением утверждал, что своих родителей в детстве почти не видел. В этом нет противоречия. Если Николай Степанович бывал дома, он охотно играл с ребенком. Ему даже не надо было делать над собой усилия, как многим взрослым, временами он чувствовал себя ребенком. В 1919–1921 годах со своими студийцами, молодыми поэтами, с удовольствием играл в жмурки. Когда Лева немного подрастет, они будут играть в войну, в индейцев, в путешественников. Только вот свободного времени у Николая Степановича было немного. Осенью 1912 года он возобновил занятия в университете. Чтобы не ездить каждый день в Петербург из Царского Села, снял комнату в Тучковом переулке на Васильевском острове. Николай Степанович и Ахматова обычно не пропускали интересных вечеров в «Бродячей собаке», где собиралась литературная богема Петербурга. Только за последние три месяца 1912 года состоялось около десятка заседаний «Цеха поэтов». Иногда они проходили в доме Гумилевых. Случалось, полуторагодовалый Лева, убежав от няни, неожиданно появлялся перед поэтами. В фольклор царскосельских поэтов Ахматова и Лева вошли под именами Гумильвица и Гумильвенок. Весной 1913 года Николай Степанович с племянником отправились в Абиссинию. На пути в Африку, из Одессы, Гумилев писал Ахматовой 9 апреля 1913 года: «Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить “папа”».
Из письма Николая Гумилева Анне Ахматовой 25 апреля 1913 года: «Леве скажи, у него будет свой негритенок, пусть радуется».
Насчет негритенка Николай Степанович, конечно, пошутил. Но привез живого попугая, светло-серого, с розовой грудкой.
Первый этаж дома Гумилевых украшали шкуры леопардов, африканские браслеты, картины абиссинских художников. Особенно сильное впечатление на гостей производило чучело пантеры в нише между столовой и гостиной.
Из воспоминаний А.А. Гумилевой-Фрейганг: «Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти».
Лева рос среди этих необычных предметов. Рассказы отца об Африке, картины, шкуры, экзотические птицы развивали и без того богатое от природы воображение. На сохранившейся фотографии маленький Лева сидит на леопардовой шкуре среди игрушечных зверей.
Оказавшись за пределами дома, Лева увидел тот же мир, что и маленькая Аня Горенко двадцать лет назад: «Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков…»
Нянька возила Левушку на санках, а «городовой грозил пальцем и говорил: “Плакать нельзя”». На прогулке в парке он однажды увидел царевича на сером ослике (запись секретаря Ахматовой Павла Лукницкого). Может быть, все-таки на пони?
В Царском Селе Гумилевы жили с сентября по май. На лето семья уезжала в родовое имение Львовых Слепнево, а дом на Малой сдавали дачникам, чтобы окупить его содержание и ремонт.
После смерти Льва Ивановича Львова (1908) имение перешло к его сестрам: Варваре, Агате и Анне. Агата умерла в 1910-м. Варвара Ивановна была очень немолода. Настоящей хозяйкой Слепнева стала Анна Ивановна.
Из автобиографии Анны Ахматовой: «Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это неживописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, “воротца”, хлеба, хлеба…»
«Воротца» – характерная примета тверских селений и усадеб, они играли роль не защитную, а скорее декоративную. На звук колокольчика прибегали деревенские ребятишки и открывали воротца, за что господа одаривали их конфетами и пряниками. Это превратилось в своеобразный ритуал. В целом же устройство усадьбы и быт Слепнева типичны для мелкопоместного дворянства. Этот образ жизни хорошо известен читателям Тургенева и Бунина.
Н.Гумилев. Старые усадьбы
Дома косые, двухэтажные.
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси.
Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.
Дом Гумилевых в Слепневе был одноэтажным, с крестообразным мезонином. С террасы можно было спуститься в цветник и дальше в парк, где росли акации, липы и одинокий старый дуб, который сохранился и в наши дни. Усадьбу разделял почтовый тракт. По одну сторону дом, по другую – фруктовый сад и огород.
В Слепневе сохранялись патриархальные традиции. Когда вся семья собиралась к столу, ждали Варвару Ивановну, самого старого человека в доме. Она чем-то напоминала Екатерину II и очень любила, когда это сходство замечали. «Пока Варвара Ивановна не сделает особый знак рукой, за стол никто не садится. <…> Анна Андреевна называла эти традиции ”китайской церемонией и XVIII веком”», – вспоминает родственница Гумилевых Е.Б. Чернова.
Летом в хорошую погоду стол накрывали прямо перед домом. Собиралось человек десять, а то и пятнадцать: сестры Львовы, их дети и внуки – Гумилевы, Лампе, Кузьмины-Караваевы, Оболенские.
За столом младшие (не только внуки, но и дети сестер – Николай и Дмитрий) разговора не начинали, а только отвечали на вопросы старших. Если Ахматова относилась к патриархальным обычаям дома иронично, то Николаю Степановичу они скорее нравились. Особенно он любил церковные праздники и старался всегда провести их с семьей. На Пасху вся семья шла в царскосельскую дворцовую церковь.
В Тверском крае сохранялись старорусские православные традиции. На Петров день монахи из Николаевской Теребенской пустыни привозили чудотворную икону Николая Мирликийского. Ее отправляли в Бежецк по реке Мологе на украшенной по такому случаю лодке. По преданию, икона еще с XV века берегла город от моровой язвы.
Лев Гумилев усвоит православную веру еще в раннем детстве, религия станет для него частью жизни, необходимым элементом бытия. Он сохранит веру во времена воинствующего безбожия. Даже в страшные тридцатые годы будет посещать храм. Со временем Гумилев приведет к вере своих учеников и многих друзей.
Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, – то значит, по течению
В село икона приплыла.
Стояние на реке Угре в 1480 году. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век Wikimedia Commons
И не простого хана, а именно Ахмата — последнего хана Золотой Орды, потомка Чингисхана. Этот популярный миф начал создаваться самой поэтессой еще в конце 1900-х годов, когда возникла необходимость в литературном псевдониме (настоящая фамилия Ахматовой — Горенко). «И только семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы…» — вспоминала Лидия Чуковская ее слова. Однако подобный ход для эпохи Серебряного века был не так уж и безрассуден: время требовало от новых литераторов артистического поведения, ярких биографий и звучных имен. В этом смысле имя Анна Ахматова прекрасно соответствовало всем критериям (поэтическим — оно создавало ритмический рисунок, двухстопный дактиль, и имело ассонанс на «а», и жизнетворческим — носило флер таинственности).
Что касается легенды о татарском хане, то она сформировалась позже. Реальная родословная не укладывалась в поэтическую легенду, поэтому Ахматова преобразовала ее. Здесь следует выделить биографический план и мифологический. Биографический состоит в том, что Ахматовы действительно присутствовали в роду поэтессы: Прасковья Федосеевна Ахматова была прабабкой со стороны матери. В стихотворениях линия родства немного приближена (см. начало «Сказки о черном кольце »: «Мне от бабушки-татарки / Были редкостью подарки; / И зачем я крещена, / Горько гневалась она»). Легендарный план связан с ордынскими князьями. Как показал исследователь Вадим Черных, Прасковья Ахматова была не татарской княжной, а русской дворянкой («Ахматовы — старинный дворянский род, происходивший, по всей видимости, от служилых татар, но давным-давно обрусевший»). Никаких данных о происхождении рода Ахматовых от хана Ахмата или вообще от ханского рода Чингизидов не имеется.
Миф второй: Ахматова была признанной красавицей
 Анна Ахматова. 1920-е годы
РГАЛИ
Анна Ахматова. 1920-е годы
РГАЛИ
Многие мемуарные записи действительно содержат восхищенные отзывы о внешности молодой Ахматовой («Из поэтесс… ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Тоненькая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану… Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею», — вспоминала Ариадна Тыркова; «Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее», — пишет Надежда Чулкова).
Тем не менее более близкие люди поэтессы оценивали ее как женщину не сказочно красивую, но выразительную, с запоминающимися чертами и особо притягательным шармом. «…Назвать нельзя ее красивой, / Но в ней все счастие мое», — писал об Ахматовой Гумилев. Критик Георгий Адамович вспоминал:
«Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой всюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание».
Сама Ахматова себя оценивала так: «Я всю жизнь могла выглядеть по желанию, от красавицы до урода».
Миф третий: Ахматова довела поклонника до самоубийства, что потом описала в стихах
Обычно это подтверждают цитатой из ахматовского стихотворения «Высокие своды костела… »: «Высокие своды костела / Синей, чем небесная твердь… / Прости меня, мальчик веселый, / Что я принесла тебе смерть…»
 Всеволод Князев. 1900-е годы
poetrysilver.ru
Всеволод Князев. 1900-е годы
poetrysilver.ru
Все это и правда, и неправда одновременно. Как показала исследователь Наталия Крайнева, у Ахматовой действительно был «свой» самоубийца — Михаил Линдеберг, покончивший с жизнью из-за несчастной любви к поэтессе 22 декабря 1911 года. Но стихотворение «Высокие своды костела…» написано в 1913 году под впечатлением от самоубийства другого юноши, Всеволода Князева, несчастно влюбленного в подругу Ахматовой, танцовщицу Ольгу Глебову-Судейкину. Этот эпизод повторится и в других стихах, например в « ». В «Поэме без героя» Ахматова сделает самоубийство Князева одним из ключевых эпизодов произведения. Общность произошедших с подругами событий в историософской концепции Ахматовой могла впоследствии соединиться в одно воспоминание: недаром на полях автографа «балетного либретто» к «Поэме» появляется пометка с именем Линдеберга и датой его кончины.
Миф четвертый: Ахматову преследовала несчастная любовь
Подобный вывод напрашивается после прочтения почти любой книги стихов поэтессы. Наряду с лирической героиней, оставляющей своих возлюбленных по собственной воле, в стихотворениях есть и лирическая маска женщины, страдающей от неразделенной любви (« », « », «Сегодня мне письма не принесли… », «Вечером », цикл «Смятение » и т. д.). Однако лирическая канва книг стихов далеко не всегда отражает биографию автора: возлюбленные поэтессы Борис Анреп, Артур Лурье, Николай Пунин, Владимир Гаршин и другие отвечали ей взаимностью.
Миф пятый: Гумилев — единственная любовь Ахматовой
 Анна Ахматова и Николай Пунин во дворе Фонтанного дома. Фотография Павла Лукницкого. Ленинград, 1927 год
Тверская областная библиотека им. А. М. Горького
Анна Ахматова и Николай Пунин во дворе Фонтанного дома. Фотография Павла Лукницкого. Ленинград, 1927 год
Тверская областная библиотека им. А. М. Горького
Брак Ахматовой с поэтом Николаем Гумилевым . С 1918-го по 1921-й она была замужем за ученым-ассириологом Владимиром Шилейко (официально они развелись в 1926 году), а с 1922 по 1938 год состояла в гражданском браке с искусствоведом Николаем Пуниным. Третий, так и не оформленный официально брак вследствие специфики времени имел свою странность: после расставания супруги продолжали жить в одной коммунальной квартире (в разных комнатах) — и более того: даже после смерти Пунина, находясь в Ленинграде, Ахматова продолжала жить с его семьей.
Гумилев также повторно женился в 1918 году — на Анне Энгельгардт. Но в 1950-60-е годы, когда «Реквием» постепенно доходил до читателей (в 1963 году поэма была опубликована в Мюнхене) и интерес к запрещенному в СССР Гумилеву стал пробуждаться, Ахматова взяла на себя «миссию» вдовы поэта (Энгельгардт к тому времени также уже не было в живых). Подобную роль выполняли Надежда Мандельштам, Елена Булгакова и другие жены ушедших литераторов, храня их архив и заботясь о посмертной памяти.
Миф шестой: Гумилев бил Ахматову
 Николай Гумилев в Царском Селе. 1911 год
gumilev.ru
Николай Гумилев в Царском Селе. 1911 год
gumilev.ru
Такой вывод не раз делали не только позднейшие читатели, но и некоторые современники поэтов. Неудивительно: почти в каждом третьем стихотворении поэтесса признавалась в жестокости мужа или возлюбленного: «…Мне муж — палач, а дом его — тюрьма », «Все равно, что ты наглый и злой… », «Углем наметил на левом боку / Место, куда стрелять, / Чтоб выпустить птицу — мою тоску / В пустынную ночь опять. / Милый! не дрогнет твоя рука. / И мне недолго терпеть…», « , / Вдвое сложенным ремнем» и так далее.
Поэтесса Ирина Одоевцева в мемуарах «На берегах Невы» вспоминает негодование Гумилева по этому поводу:
«Он [поэт Михаил Лозинский] рассказал мне, что его постоянно допытывают студисты, правда ли, что я из зависти мешал Ахматовой печататься… Лозинский, конечно, старался их разубедить.
<…>
<…> Наверно и вы, как они все, твердили: Ахматова — мученица, а Гумилев — изверг.
<…>
Господи, какой вздор! <…> …Когда я понял, насколько она талантлива, я даже в ущерб себе самому постоянно выдвигал ее на первое место.
<…>
Сколько лет прошло, а я и сейчас чувствую обиду и боль. До чего это несправедливо и подло! Да, конечно, были стихи, которые я не хотел, чтобы она печатала, и довольно много. Хотя бы вот:
Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвое сложенным ремнем.
Ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом. Про меня пустили слух, что я, надев фрак (а у меня и фрака тогда еще не было) и цилиндр (цилиндр у меня, правда, был), хлещу узорчатым, вдвое сложенным ремнем не только свою жену — Ахматову, но и своих молодых поклонниц, предварительно раздев их догола».
Примечательно, что после развода с Гумилевым и после заключения брака с Шилейко «побои» не прекратились: «От любви твоей загадочной , / Как от боли, в крик кричу, / Стала желтой и припадочной, / Еле ноги волочу», «А в пещере у дракона / Нет пощады, нет закона. / И висит на стенке плеть, / Чтобы песен мне не петь» — и так далее.
Миф седьмой: Ахматова была принципиальной противницей эмиграции
Этот миф был создан самой поэтессой и активно поддерживается школьным каноном. Осенью 1917 года Гумилев рассматривал возможность переезда за рубеж для Ахматовой, о чем сообщал ей из Лондона. Уехать из Петрограда советовал и Борис Анреп. На эти предложения Ахматова ответила стихотворением, известным в школьной программе как «Мне голос был…».
Почитатели творчества Ахматовой знают, что этот текст является на самом деле второй частью стихотворения, менее однозначного по своему содержанию, — «Когда в тоске самоубийства… », где поэтесса рассказывает не только о своем принципиальном выборе, но и о тех ужасах, на фоне которых принимается решение.
«Думаю, могу не описывать, как мне мучительно хочется приехать к тебе. Прошу тебя — устрой это, докажи, что ты мне друг…
Я здорова, очень скучаю в деревне и с ужасом думаю о зиме в Бежецке. <…> Как странно мне вспоминать, что зимой 1907 года ты в каждом письме звал меня в Париж, а теперь я совсем не знаю, хочешь ли ты меня видеть. Но всегда помни, что я тебя крепко помню, очень люблю и что без тебя мне всегда как-то невесело. Я с тоской смотрю на то, что сейчас творится в России, тяжко карает Господь нашу страну».
Соответственно, осеннее письмо Гумилева является не предложением к отъезду за рубеж, а отчетом по ее просьбе.
После порыва к отъезду Ахматова достаточно скоро решилась остаться и уже не изменила своего мнения, что прослеживается и в других ее стихотворениях (например, «Ты — отступник: за остров зеленый… », «Высокомерьем дух твой помрачен… »), и в рассказах современников. По воспоминаниям, в 1922 году у Ахматовой вновь появляется возможность уехать из страны: Артур Лурье, обосновавшись в Париже, настойчиво зовет ее туда, но она отказывает (на руках у нее, по свидетельству конфидента Ахматовой Павла Лукницкого, было 17 писем с этой просьбой).
Миф восьмой: Сталин завидовал Ахматовой
 Ахматова на литературном вечере. 1946 год
РГАЛИ
Ахматова на литературном вечере. 1946 год
РГАЛИ
Сама поэтесса и многие ее современ-ники посчитали появление постанов-ления ЦК 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», где шельмовались Ахматова и Зощенко, следствием события, произошедшего на одном литературном вечере. «„Это я зарабатываю постановление“, — говорила Ахматова о фотографии, сделанной на одном из вечеров, проходивших в Москве весной 1946 года. <…> По слухам, Сталин был разгневан пылким приемом, который оказывали Ахматовой слушатели. Согласно одной из версий, Сталин спросил после какого-то вечера: „Кто организовал вставание?“», — вспоминает Ника Глен. Лидия Чуковская дополняет: «Ахматова полагала, что… Сталин приревновал ее к овациям… Аплодисменты стоя причитались, по убеждению Сталина, ему одному — и вдруг толпа устроила овацию какой-то поэтессе».
Как подмечает , для всех воспоминаний, связанных с этим сюжетом, характерны типичные оговорки («по слухам», «полагала» и так далее), что является вероятным признаком домысла. Реакция Сталина, как и «цитатная» фраза о «вставании», не имеют документальных подтверждений или опровержений, поэтому этот эпизод стоит рассматривать не как абсолютную истину, а как одну из популярных, вероятных, но до конца не подтвержденных версий.
Миф девятый: Ахматова не любила своего сына
 Анна Ахматова и Лев Гумилев. 1926 год
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 1926 год
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
И это не так. В непростой истории взаимоотношений Ахматовой со Львом Гумилевым много нюансов. В ранней лирике поэтесса создавала образ нерадивой матери («…Я дурная мать », «…Отыми и ребенка, и друга… », «Для чего же, бросив друга / И кудрявого ребенка…»), в чем была доля биографизма: детство и юность Лев Гумилев провел не с родителями, а с бабушкой, Анной Гумилевой, мать и отец лишь иногда приезжали к ним. Но в конце 1920-х годов Лев перебрался в Фонтанный дом, в семью Ахматовой и Пунина.
Серьезная размолвка произошла после возвращения в 1956 году Льва Гумилева из лагеря. Он не мог простить матери, как ему казалось, ее легкомысленного поведения в 1946 году (см. миф восьмой) и некоторого поэтического эгоизма. Однако именно ради него Ахматова не только «стояла триста часов» в тюремных очередях с передачей и просила каждого более или менее влиятельного знакомого помочь с освобождением сына из лагеря, но и пошла на шаг, противоречащий любому эгоизму: переступив через свои убеждения, ради свободы сына Ахматова написала и опубликовала цикл «Слава миру!», где прославляла советский строй Когда в 1958 году вышла первая после значительного перерыва книга Ахматовой, в авторских экземплярах она заклеивала страницы со стихотворениями из этого цикла. .
В последние годы Ахматова не раз говорила близким о желании восстановить прежние отношения с сыном. Эмма Герштейн пишет:
«…она мне сказала: „Я бы хотела помириться с Левой“. Я ответила, что и он, вероятно, этого хочет, но боится чрезмерного волнения и для нее, и для себя при объяснении. „Да не надо объясняться, — живо возразила Анна Андреевна. — Пришел бы и сказал: ‚Мама, пришей мне пуговицу‘“».
Вероятно, переживания от размолвки с сыном во многом ускорили смерть поэтессы. В последние дни ее жизни возле больничной палаты Ахматовой развернулось театральное действо: близкие решали, пускать или не пускать Льва Николаевича к матери, не приблизит ли их встреча кончину поэтессы. Ахматова умерла, так и не помирившись с сыном.
Миф десятый: Ахматова — поэт, ее нельзя называть поэтессой
Часто обсуждения творчества Ахматовой или иных аспектов ее биографии заканчиваются жаркими терминологическими спорами — «поэт» или «поэтесса». Спорящие небезосновательно ссылаются на мнение самой Ахматовой, подчеркнуто называвшей себя поэтом (что зафиксировали многие мемуаристы), и призывают продолжать именно эту традицию.
Однако стоит помнить о контексте употребления этих слов век назад. Поэзия, написанная женщинами, только начинала появляться в России, и к ней редко относились всерьез (см. характерные названия рецензий на книги женщин-поэтов начала 1910-х годов: «Женское рукоделие», «Любовь и сомнение»). Поэтому многие женщины-литераторы или выбирали себе мужские псевдонимы (Сергей Гедройц Псевдоним Веры Гедройц. , Антон Крайний Псевдоним, под которым Зинаида Гиппиус печатала критические статьи. , Андрей Полянин Имя, взятое Софией Парнок для публикации критики. ), или писали от лица мужчины (Зинаида Гиппиус, Поликсена Соловьева). Творчество Ахматовой (и во многом Цветаевой) полностью изменило отношение к поэзии, создаваемой женщинами, как к «неполноценному» направлению. Еще в 1914 году в рецензии на «Четки» Гумилев делает символический жест. Назвав несколько раз Ахматову поэтессой, в конце отзыва он дает ей имя поэта: «Та связь с миром, о которой я говорил выше и которая является уделом каждого подлинного поэта, Ахматовой почти достигнута».
В современной ситуации, когда достоинства поэзии, созданной женщинами, уже не нужно никому доказывать, в литературоведении принято называть Ахматову поэтессой, в соответствии с общепринятыми нормами русского языка.
Поэтесса Анна Ахматова и ее сын Лев Гумилев – заключенный Карагандинской тюрьмы, 1951
25 лет назад, 15 июня 1992 г. ушел из жизни крупный ученый-востоковед, историк-этнограф, поэт и переводчик, чьи заслуги долгое время оставались недооцененными, – Лев Гумилев. Весь его жизненный путь был опровержением того, что «сын за отца не отвечает». В наследство от родителей ему достались не слава и признание, а годы репрессий и гонений: его отец Николай Гумилев был расстрелян в 1921 г., а мать – Анна Ахматова – стала опальной поэтессой. Отчаяние после 13 лет в лагерях и постоянных препятствий в занятиях наукой усугублялось взаимным непониманием в отношениях с матерью.

Поэтесса Анна Ахматова

Николай Гумилев, Анна Ахматова и их сын Лев, 1915
1 октября 1912 г. у Анны Ахматовой и Николая Гумилева родился сын Лев. В том же году у Ахматовой вышел ее первый поэтический сборник «Вечер», затем – сборник «Четки», которые принесли ей признание и вывели в литературный авангард. Свекровь предложила поэтессе забрать на воспитание сына – оба супруга были слишком молоды и заняты своими делами. Ахматова согласилась, и это стало ее роковой ошибкой. До 16 лет Лев рос с бабушкой, которую называл «ангелом доброты», а с матерью виделся редко.
Анна Ахматова с сыном
Его родители вскоре разошлись, а в 1921 г. Лев узнал о том, что Николая Гумилева расстреляли по обвинению в контрреволюционном заговоре. В том же году его навестила мать, а потом пропала на 4 года. «Я понял, что никому не нужен», – писал Лев, отчаявшись. Он не мог простить матери того, что остался один. К тому же тетка сформировала у него представление об идеальном отце и «дурной матери», бросившей сироту.
Лев Гумилев в 14 лет
Многие знакомые Ахматовой уверяли, что в быту поэтесса была совершенно беспомощна и не могла позаботиться даже о себе самой. Ее не печатали, она жила в стесненных условиях и считала, что с бабушкой сыну будет лучше. Но когда встал вопрос о поступлении Льва в университет, она забрала его в Ленинград. На тот момент она вышла за Николая Пунина, но хозяйкой в его квартире не была – они жили в коммуналке, вместе с его бывшей женой и дочерью. А Лев и вовсе был там на птичьих правах, он спал на сундуке в неотапливаемом коридоре. В этой семье Лев чувствовал себя чужим.
Лев Гумилев, 1930-е гг.
В университет Гумилева не приняли из-за социального происхождения, и ему пришлось освоить множество профессий: он работал чернорабочим в трамвайном управлении, рабочим в геологических экспедициях, библиотекарем, археологом, музейным работником и т. д. В 1934 г. ему наконец удалось стать студентом исторического факультета ЛГУ, но уже через год его арестовали. Вскоре его выпустили «за отсутствием состава преступления», в 1937 г. он восстановился в университете, а в 1938 г. снова был арестован по обвинению в терроризме и антисоветской деятельности. На этот раз ему дали 5 лет в Норильлаге.
Фотография Льва Гумилева из следственного дела, 1949
По окончании срока в 1944 г. Лев Гумилев ушел на фронт и всю оставшуюся войну прошел рядовым. В 1945 г. он вернулся в Ленинград, снова восстановился в ЛГУ, поступил в аспирантуру и уже спустя 3 года защитил кандидатскую диссертацию по истории. В 1949 г. его снова арестовали и без предъявления обвинения приговорили к 10 годам лагерей. Только в 1956 г. его наконец освободили и реабилитировали.
Лев Гумилев и Анна Ахматова, 1960-е гг.

Лев Гумилев, 1980-е гг.
В это время поэтесса жила в Москве у Ардовых. До Льва дошли слухи, что деньги, вырученные за переводы, она тратила на подарки жене Ардова и ее сыну. Льву казалось, что мать экономит на посылках, редко пишет и относится к нему слишком легкомысленно.

Лев Гумилев
Лев Гумилев был настолько обижен на свою мать, что даже писал в одном из писем, что, будь он сыном простой бабы, давно уже стал бы профессором, и что мать его «не понимает, не чувствует, а только томится». Он упрекал ее в том, что она не хлопотала о его освобождении, в то время как Ахматова опасалась, что ходатайства от ее имени могут только усугубить его положение. К тому же Пунины и Ардовы убеждали ее в том, что ее хлопоты могут навредить и ей, и сыну. Гумилев не учитывал тех обстоятельств, в которых приходилось пребывать его матери, и того, что она не могла ему откровенно написать обо всем, так как ее письма подвергались цензуре.
Сын Ахматовой Лев Гумилев

Историк, географ, востоковед, этнограф, переводчик Лев Гумилев
После его возвращения непонимание между ними только усилилось. Поэтессе казалось, что сын стал чрезмерно раздражительным, резким и обидчивым, а он по-прежнему обвинял мать в равнодушии к нему и его интересам, в пренебрежительном отношении к его научным трудам.
Поэтесса Анна Ахматова и ее сын Лев Гумилев
В 5 последних лет они не виделись, и когда поэтесса заболела, за ней ухаживали чужие люди. Лев Гумилев защитил докторскую по истории, за ней еще одну по географии, хотя звания профессора так и не получил. В феврале 1966 г. Ахматова слегла с инфарктом, сын приехал из Ленинграда навестить ее, но Пунины не пустили его в палату – якобы оберегая слабое сердце поэтессы. 5 марта ее не стало. Лев Гумилев пережил мать на 26 лет. В 55 лет он женился и остаток дней провел в тишине и покое.
Лев Гумилев с женой Натальей, 1970-е гг.

Лев Гумилев за рабочим столом. Ленинград, 1990-е гг.
Они так и не нашли пути друг к другу, не поняли и не простили. Оба стали жертвами страшного времени и заложниками чудовищной ситуации, в которой Лев Гумилев вынужден был всю жизнь расплачиваться за то, что он – сын своих родителей.