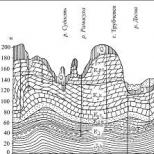Езда в остров любви первое издание 1730. Переводы западноевропейской прозы. «Езда в остров Любви» как жанровый прообраз романа «воспитания чувств
Василий Кириллович Тредиаковский - классическая переходная фигура в русской литературной традиции, и притом фигура в высшей степени своеобразная. Пожалуй, ни один из писателей начала 18 века не обладал до такой степени индивидуализированным литературным стилем и такой оригинальной литературной позицией, как Тредиаковский, чье положение в современном ему литературном процессе было совершено особенным в силу того, что это был как бы «человек без середины». Тредиаковский иногда поражает своей архаичностью, он способен поразить - остротой своей литературной интуиции.
В стилевом отношении лирика Тредиаковского представляет собой своеобразный литературный аналог языковой ситуации первых десятилетий XVIII в. В это время и в разговорном, и в литературном языке (что было в общем-то одно и то же, поскольку никакой особенной нормы литературного языка не существовало) царила величайшая стилевая путаница русизмов, славянизмов, варваризмов, архаических и просторечных форм. То же самое положение наблюдается не только в стилистике, но и в поэтике, и в жанровом составе, и в формальных особенностях лирики Тредиаковского. Его поэзия складывается как бы из трех разнородных пластов — силлабические дореформенные стихи, стихи индивидуального метра Тредиаковского (тонизированный силлабический тринадцатисложник, с точки зрения силлабо-тоники он представлял собой цезурованный семистопный хорей) стихи ломоносовских метров: короткие (трех- и четырехстопный хорей, четырехстопный ямб), и длинные (александрийский стих). И каждая из этих трех групп лирики отличается присущими только ей жанрово-стилевыми свойствами.
Одной из важнейших отраслей литературной деятельности Тредиаковского были переводы западноевропейской прозы. Его трудами ранняя русская повествовательная традиция обогатилась тремя переводами западноевропейских романов — «Езда в остров Любви» Таллемана (написан в 1663 г.), «Аргенида» Барклая (1621) и «Странствие Телемака» Фенелона (1699). В переводах Тредиаковского они увидели свет соответственно в 1730, 1751 и 1766 гг.
«Езда в остров любви»
Выбор Тредиаковским «Езды в остров Любви» демонстрирует острое литературное чутье молодого писателя и точное понимание запросов современных ему читателей. Тяга к галантной любовной культуре Запада и новое качество национального любовного быта, отразившееся и в безавторских гисториях, и в любовных песнях Петровской эпохи, стала знаком новизны эмоциональной культуры русского общества и показателем процесса формирования нового типа личности, порожденного эпохой государственных преобразований. Энциклопедия любовных ситуаций и оттенков любовной страсти, которую роман Таллемана предлагал в аллегорической форме, была воспринята в России как своего рода концентрат современной эмоциональной культуры и своеобразный кодекс любовного поведения русского человека новой культурной ориентации. Поскольку это была единственная печатная книга такого рода и единственный светский роман русской литературы 1730-х гг., его значение было невероятно большим.
Роман Таллемана написан в форме двух писем героя, Тирсиса, к своему другу Лициде; в них повествуется о путешествии, которое Тирсис в сопровождении Купидона совершил по острову Любви, о встрече с красавицей Аминтой и бурной страсти, которую она вызвала у Тирсиса; об измене Аминты и попытках Тирсиса утешиться в любви сразу к двум девушкам, Филисе и Ирисе, о том, наконец, как Тирсис покинул остров Любви, где он знал сердечную муку, и последовал за богиней Славой. Примечательно, что сюжет романа развивается сразу в двух литературных формах — повествовательной прозе и поэзии: всем перипетиям странствия Тирсиса по острову Любви неизменно сопутствуют стихотворные вставки.
География острова Любви тесно связана с разными стадиями любовной страсти: путешествуя от города к городу, посещая деревни и замки, идя вдоль берегов реки или озера, поднимаясь на гору, герой романа последовательно проходит все ступени любовного чувства: его путешествие начинается с местечка Малые прислуги, где Тирсис видит во сне Аминту и встречается с Купидоном; последний ведет его в Объявление, то есть объяснение в любви; однако по дороге они встречаются с Почтением, которое, упрекая Тирсиса в поспешности, ведет их в замок Молчаливости, где правит его дочь Предосторожность.
В крепости Молчаливости Тирсис видит Аминту, и она догадывается о его любви, потому что на этой стадии любовного чувства влюбленные объясняются не словами, а глазами и вздохами.
Догадавшись о любви Тирсиса, Аминта удаляется в пещеру Жестокости, возле которой поток Любовных слез («Сему потоку быть стало // Слез любовничьих начало» — 107) впадает в озеро Отчаяние, последний приют несчастных влюбленных («Препроводивши многи дни свои в печали, // Приходят к тому они, дабы жизнь скончали» — 107), и Тирсис близок к тому, чтобы броситься в это озеро. Но дева Жалость выводит Аминту из пещеры Жестокости, и влюбленные попадают в замок Искренности, где происходит объяснение. Далее путь ведет их в замок Прямыя Роскоши — апофеоз любви, где сбываются все желания. Но с вершины самой высокой горы, Пустыни Воспоминовения, Тирсис видит неверную Аминту с другим возлюбленным в замке Прямыя Роскоши. Его отчаяние пытаются умерить Презор (гордость) и Глазолюбность (кокетство); Презор взывает к его чувству чести и достоинства, а Глазолюбность посылает в местечки Беспристрастность и Забава, где можно любить без муки. В результате безутешный Тирсис, утративший Аминту, покидает остров Любви, следуя за богиней Славой.
Таким образом, разные стадии любовного чувства, переживаемого Тирсисом на острове Любви, воплощены в разных географических пунктах, а персонажи романа — Почтение, Жалость, Досада, Честь и Стыд, Рок, Презор, Купидон — это аллегорические воплощения любовных эмоций. Последовательно встречаясь с Тирсисом и становясь его временными спутниками, эти персонажи символизируют в своих фигурах последовательное развитие любовной страсти — от зарождения любви до ее окончания. В тексте Таллемана идеальная, понятийная реальность эмоциональной духовной жизни воссоздана при помощи пластических воплощений абстрактного понятия в аллегорическом пейзаже (скала, пещера, озеро, поток) или аллегорической фигуре персонажа, характер которого определяется тем понятием, которое он воплощает (Почтение, Предосторожность, Жалость, Кокетство и др.). Таким образом, роман Таллемана оперирует теми же самыми уровнями реальности — идеологическим, или эмоционально понятийным, и материальным, пластическим, из которых складывалась целостная картина мира в эстетическом сознании XVIII в.
Еще одной причиной, определившей успех романа «Езда в остров Любви», была подчеркнутая сосредоточенность его сюжета в мире частных и интимных человеческих переживаний, как нельзя лучше соответствовавшая обостренному личностному чувству, характерному для массового культурного сознания начала XVIII в. Однако и здесь мы можем наблюдать характерную для эпохи двойственность: при том, что любовь как таковая — это чувство сугубо личное и индивидуальное, оно является и универсальным, общечеловеческим чувством
Своеобразная литературная форма романа «Езда в остров Любви», написанного прозой и стихами, не могла не привлечь внимание русского писателя и русских читателей. Двойное лироэпическое проигрывание сюжета «Езды в остров Любви» в эпическом описании странствий Тирсиса по материальному пространству вымышленного острова и в лирическом стихотворном излиянии любовных эмоций, которые в совокупности своей создают картину духовной эволюции героя, — все это придавало объемность романной картине мира, объединившей описательно-пластический и выразительно-идеальный аспекты литературного мирообраза. Так, в новой русской литературе появляется первообраз грядущей модели романного повествования, объединяющий два существенных жанрообразующих признака романного эпоса — эпоса странствий и эпоса духовной эволюции. А поскольку сюжет романа целиком сосредоточен в области частной эмоциональной жизни человека, то можно сказать, что перевод Тредиаковского предлагает русской литературе своеобразную исходную жанровую модель романа «воспитания чувств».
«Тилемахида»
Предпринятый Тредиаковским в 1760-х гг. стихотворный перевод прозаического романа Франсуа Фенелона «Странствия Телемака» предлагает совсем другую жанровую модификацию романа и в подлиннике, и в переводе. Франсуа Салиньяк де ла Мотт Фенелон в своем романе «Странствия Телемака» изложил свою педагогическую концепцию и свои взгляды на природу монархии и ее общественное назначение. Именно в романе Фенелона идеал просвещенной, законосообразной монархии нашел свое художественное воплощение.
Сюжет «Странствий Телемака» восходит к 1—4 песням поэмы Гомера «Одиссея», в которых повествуется о том, как сын Одиссея, Телемак, отправился искать своего отца. Фенелон значительно расширил географию странствий Телемака, заставив его посетить все страны античного Средиземноморья, включая Финикию и Египет. Это расширение географии понадобилось Фенелону с определенной целью: таким образом он провел своего героя через знакомство со всеми системами государственного правления — от абсолютной монархии и тирании до торговой республики. В результате жизненного опыта и наблюдений, которые дало ему путешествие, а также в результате наставлений богини мудрости Афины-Паллады, принявшей облик воспитателя Ментора, Телемак возвращается на свой остров Итаку просвещенным монархом. Облекая свой политико-воспитательный трактат в образы и сюжет античного эпоса, Фенелон следовал традиции жанра государственно-политического романа, предписывавшей поучать, забавляя.
Для Тредиаковского в романе Фенелона было, таким образом, два привлекательных аспекта — идеологический (концепция просвещенной монархии) и эстетический (сюжетная связь с гомеровским эпосом
Второй, не менее важный идеологический лейтмотив «Тилемахиды» — это необходимость воспитания и просвещения будущего властителя. Все приключения и встречи, которые ждут Телемака в его странствиях в поисках Одиссея, неизменно преследуют одну и ту же цель: дать жизненный урок, возможность на собственном опыте постигнуть заблуждение и истину, горе и радость для того, чтобы будущему монарху стали внятны общечеловеческие чувства. Это параллельное воздействие на чувства и разум Телемака достигается в результате жизненного опыта, обретаемого им в путешествии, и усвоения моральных правил, преподанных мудрыми наставлениями его спутника и руководителя Ментора-Афины Паллады, которая ведет своего воспитанника к конечной цели странствия; и этой целью является не только обретение отца, но и становление личности Телемака как будущего идеального монарха.
В результате идеологический роман, переведенный Тредиаковским, стал таким же потрясением основ — но на сей раз уже не нравственных, а политических, — каким для 1730-х гг. являлся перевод любовного романа «Езда в остров Любви». И если любовный роман принес Тредиаковскому неприятности со стороны служителей церкви, то «Тилемахида» вызвала неудовольствие императрицы Екатерины II, истинной причиной которого было неудобное в политическом отношении содержание «Тилемахиды»: апология законосообразной монархии звучала особенно остро в случае с Екатериной II, которая заняла русский престол максимально незаконным путем.
Другой аспект перевода Тредиаковского — эстетический — не менее важен в перспективе развития русской литературы. Здесь первостепенное значение приобретает тот факт, что Тредиаковскии перевел прозаический роман Фенелона стихами, причем совершенно оригинальным, им самим разработанным метром — силлабо-тоническим аналогом гомеровского гекзаметра.
С точки зрения силлабо-тоники таким аналогом стал шестистопный дактиль: структура дактилической стопы, состоящей из одного ударного и двух безударных слогов, так близко, насколько это возможно в языке с другой акцентологией, передает ритм чередования долгих и кратких звуков в античных гекзаметрах. Таким образом, из романа Фенелона Тредиаковскии попытался сделать что-то вроде античной эпопеи, обратившись к первоисточникам Фенелонова подражания — «Илиаде», «Одиссее» и «Энеиде». Отсюда и характерная перемена названия перевода: романному названию «Странствия Телемака» противостоит гомеровское и эпическое: «Тилемахида», образованное по аналогии с названиями античных эпических поэм.
Насколько важной самому Тредиаковскому представлялась именно эта задача, и какой принципиальный смысл он придавал своим гекзаметрам, свидетельствует зачин «Тилемахиды», традиционный компонент любой эпопеи, так называемые «предложение» — обозначение основного предмета повествования — и «призывание» — обращение к музе за вдохновением.
И, облекая в гомеровские гекзаметры повествование о странствиях Телемака, Тредиаковский последовательно стремился воспроизвести характерные приметы именно гомеровского эпического стиля. Одной из основных таких примет стали так называемые составные эпитеты, образованные от двух разных корней и передающих сложный комбинированный признак. Подобными эпитетами насыщен перевод Тредиаковского: «море многопагубное», «сын отцелюбный», «стихопевец громогласный», «краса женолична», «труд многодельный», «камни остросуровы», «день светозарный» — все это создает основу особого, гомеровского стиля в русской поэзии.
Переводя прозу Фенелона гекзаметрами, Тредиаковский, по сути дела, соединил целый прозаический род — романистику — со стихом, и его «Тилемахида» — это, фактически, первый русский роман в стихах, первообраз жанровой модели стихотворного романа, блистательно осуществленной Пушкиным в «Евгении Онегине». И если с точки зрения своих формально-стиховых признаков «Тилемахида» лежит у истоков русской поэтической гомеровской традиции, то как жанровая форма она предлагает именно романную модель: роман воспитательный, роман-путешествие, роман идеолого-политический — все это реализованные более поздней русской романной традицией жанровые перспективы «Тилемахиды».
Тредиаковскому в его неустанных жанровых экспериментах удалось впервые выразить некоторые особенности национального эстетического мышления в том, что касается понимания природы и особенностей романного жанра хотя бы в силу того, что он был, во-первых, энциклопедически образованным филологом, а во-вторых, русским писателем. И в том, что романные опыты Тредиаковского так широко ассоциативны по отношению к дальнейшей эволюции русского эпоса, заключается их главное историко-литературное значение.
Переводы западноевропейской прозы.
романа «воспитания чувств»
Другой важнейшей отраслью литературнойдеятельности Тредиаковского были переводы западноевропейской прозы. Его трудамиранняя русская повествовательная традиция обогатилась тремя переводами западноевропейских романов - «Езда в остров Любви» Таллемана (написан в 1663 г.), «Аргенида» Барклая (1621) и «Странствие Телемака» Фенелона (1699). В переводах Тредиаковского они увидели свет соответственно в 1730, 1751 и 1766 гг. Эти даты на первый взгляд свидетельствуют о том, что Тредиаковский безнадежно архаичен в своих литературных пристрастиях: разрыв между временем создания текста и временем его перевода на русский язык составляет в среднем около века, и в то время, когда Тредиаковский перевел «Езду в остров Любви», вся Европа зачитывалась авантюрно-плутовским романом Лесажа «Жиль Блаз», а автор другого знаменитого романа - семейной хроники «История Тома Джонса, найденыша» Генри Филдинг как раз дебютировал как литератор. Однако эта архаичность литературных пристрастий Тредиаковского - только кажущаяся. Во всех трех случаях его выбор строго мотивирован особенностями национального литературного процесса.
Несмотря на свою кажущуюся архаичность, выбор Тредиаковским «Езды в остров Любви» демонстрирует острое литературное чутье молодого писателя и точное понимание запросов современных ему читателей. Так же, как военно-морской и торговый флот был символом всей новизны русской государственности, политики и экономики, тяга к галантной любовной культуре Запада и новое качество национального любовного быта, отразившееся и в безавторских гисториях, и в любовных песнях Петровской эпохи, стала знаком новизны эмоциональной культуры русского общества и показателем процесса формирования нового типа личности, порожденного эпохой государственных преобразований. Энциклопедия любовных ситуаций и оттенков любовной страсти, которую роман Таллемана предлагал в аллегорической форме, была воспринята в России как своего рода концентрат современной эмоциональной культуры и своеобразный кодекс любовного поведения русского человека новой культурной ориентации. Поскольку это была единственная печатная книга такого рода и единственный светский роман русской литературы 1730-х гг., его значение было невероятно большим; как заметил Ю. М. Лотман, «Езда в остров Любви» стала «Единственным Романом» .
Роман Таллемана написан в форме двух писем героя, Тирсиса, к своему другу Лициде; в них повествуется о путешествии, которое Тирсис в сопровождении Купидона совершил по острову Любви, о встрече с красавицей Аминтой и бурной страсти, которую она вызвала у Тирсиса; об измене Аминты и попытках Тирсиса утешиться в любви сразу к двум девушкам, Филисе и Ирисе, о том, наконец, как Тирсис покинул остров Любви, где он знал сердечную муку, и последовал за богиней Славой. Примечательно, что сюжет романа развивается сразу в двух литературных формах - повествовательной прозе и поэзии: всем перипетиям странствия Тирсиса по острову Любви неизменно сопутствуют стихотворные вставки.
ТВОРЧЕСТВО В. К. ТРЕДИАКОВСКОГО (1703-1769)
Из трех ближайших современников, стоявших у истоков новой русской литературы - Кантемира, Ломоносова и Тредиаковского - последний был самым старшим. Естественно было бы ожидать, что он в наибольшей мере будет связан с предшествующей литературной традицией. Однако этого не случилось: если Кантемир глубоко укоренен в традиции русского силлабического виршетворчества, а Ломоносов - первый поэт новой литературы, его творчеством во многом и созданной, то Василий Кириллович Тредиаковский - классическая переходная фигура в русской литературной традиции, и притом фигура в высшей степени своеобразная. Пожалуй, ни один из писателей начала XVIII в. не обладал до такой степени индивидуализированным литературным стилем и такой оригинальной литературной позицией, как Тредиаковский, чье положение в современном ему литературном процессе было совершенно особенным в силу того, что это был как бы «человек без середины». На фоне творчества Ломоносова и Сумарокова Тредиаковский иногда поражает своей архаичностью; в перспективе движения русской литературы к Радищеву и Державину он тоже способен поразить - остротой своей литературной интуиции: многие черты его поэтического стиля и свойства эстетического мышления найдут своих наследников через два, а то и три литературных поколения XVIII в.
Метрико-стилевое своеобразие переходной лирики Тредиаковского. Силлабические стихи В стилевом отношении лирика Тредиаковского представляет собой своеобразный литературный аналог языковой ситуации первых десятилетий XVIII в. В это время и в разговорном, и в литературном языке (что было в общем-то одно и то же, поскольку никакой особенной нормы литературного языка не существовало) царила величайшая стилевая путаница русизмов, славянизмов, варваризмов, архаических и просторечных форм. То же самое положение наблюдается не только в стилистике, но и в поэтике, и в жанровом составе, и в формальных особенностях лирики Тредиаковского. Его поэзия складывается как бы из трех разнородных пластов - силлабические дореформенные стихи, стихи индивидуального метра Тредиаковского (тонизированный силлабический тринадцатисложник, с точки зрения силлабо-тоники он представлял собой цезурованный семистопный хорей) стихи ломоносовских метров: короткие (трех- и четырехстопный хорей, четырехстопный ямб), и длинные (александрийский стих). И каждая из этих трех групп лирики отличается присущими только ей жанрово-стилевыми свойствами. Силлабические стихи Тредиаковского написаны в основном до середины 1730-х гг. Самые ранние свои стихотворения, относящиеся к 1725-1730 гг., он издал в виде отдельного поэтического приложения к роману «Езда в остров Любви», озаглавив их «Стихи на разные случаи». Это совершенно незаурядное явление в литературной практике начала века. По сути, «Стихи на разные случаи» - это первый авторский лирический сборник, с четко просматривающимися тенденциями к циклической организации текстов . Иными словами, стихи подобраны так, что их жанрово-стилевые и тематические особенности образуют систему внутренних перекличек, аналогий и противоположностей, и основание этой системы - признак, по которому стихи между собой соотносятся - является циклообразующим началом, то есть лирическим сюжетом сборника в целом. Открывается сборник парой стихотворений «Песнь. Сочинена в Гамбурге к торжественному празднованию коронации ее величества императрицы Анны Иоанновны <...>» и «Элегия о смерти Петра I». Это именно сознательно выстроенная жанрово-тематическая и стилевая оппозиция: коронация императора - это типичный одический «случай», тема смерти и скорби является столь же традиционно элегической, причем жанр торжественной оды предполагает преобладание общественно-патриотических интонаций, а жанр элегии - доминирование интимно-личных эмоций. И то обстоятельство, что и ода, и элегия Тредиаковского тематически связаны с государственной жизнью России и посвящены русским самодержцам, только подчеркивает перекрещивание традиционных лирических эмоций в этих жанрах: «Песнь...» Тредиаковского имеет характер непосредственного лирического излияния, элегия же насыщена панегирической аллегорической образностью торжественной лирики; легкому разговорному стилю оды противостоит приподнятый и насыщенный старославянизмами стиль элегии:
Так уже в самых ранних лирических текстах Тредиаковского обнаруживается экспериментаторская страсть, во многом определявшая его эстетическую позицию и своеобразие его жанрово-стилевой палитры: Тредиаковский как бы испытывает слово, стиль и жанр с целью выявить его скрытые возможности. Диалог жанров, стилей, лирических эмоций определяет собою весь состав сборника; практически каждое стихотворение в нем имеет свою пару, синонимическую или антонимическую. Учась в Париже, в Сорбонне, Тредиаковский тосковал по России и излил свою ностальгию в «Стихах похвальных России»; с другой стороны, центр европейской культуры и образованности, Париж, не мог не вызвать его восторгов. Так возникает следующая пара стихотворений, тоже эмоционально противоположных: одно и то же чувство - любовь - выражается в разных лирических интонациях:
Столь же прочные парные отношения связывают между собой два образца пейзажной лирики Тредиаковского: «Песенка, которую я сочинил, еще будучи в московских школах, на мой выезд в чужие край» и «Описание грозы, бывшия в Гааге» предлагают читателю описание двух контрастных состояний природы - весенний расцвет и грозовое ненастье, сопряженные с двумя контрастными лирическими эмоциями - радостного подъема и ужаса:
Наконец, и два любовных стихотворения, включенных в состав сборника, тоже представляют собой диалогическую оппозицию. В песне «Прошение любве» поэт обращается к богу любви Купидону с просьбой «покинуть стрелы», то есть не разжигать больше любовного огня в сердцах, и так уже «уязвленных» стрелами Амура; в «Песенке любовной» - просьба прямо противоположного характера: мольба о любви обращена к неприступной красавице:
Примечательно, что в обоих стихотворениях любовь осознается как противоречивое, неоднозначное чувство: «сладкая мука», «жестокость паче рока», то есть и здесь в диалог вступают контрастные психологические состояния и эмоции. Но, пожалуй, самое примечательное в сборнике Тредиаковского то, что ровно половина его текстов - 16 из 32 - написана на французском языке: свои французские стихотворения Тредиаковский включил в свой поэтический сборник на равных правах с русскими. И то, что за исключением одного случая Тредиаковский не дает перевода французских текстов (в современных изданиях они выполнены М. Кузминым) - весьма показательно: адресат стихотворений Тредиаковского - это новый, образованный русский читатель, в равной мере владеющий своим и чужими языками. Весь сборник в целом пронизан идеей диалога противоположных начал - радости и скорби, любовного счастья и любовной муки, тоски по родине и восторга перед Европой, весеннего цветения и грозного катаклизма в природе, наконец, диалога двух языков, двух культур - русской и французской. И в этом смысле он является своеобразным зеркалом духовной жизни молодого человека первых десятилетий XVIII в., живущего на переломе эпох и исторических судеб своей страны и культуры. Своеобразным смысловым центром всего сборника является «Ода о непостоянстве мира», переведенная Тредиаковским на французский язык под названием «Та ж самая ода по-французски»: диалогизм параллельных текстов дополнен в этой паре стихотворений тематическим диалогизмом. Как это явствует из самого названия, лирический сюжет «Оды о непостоянстве мира» определен поэтической рефлексией о непрочности и переменчивости природы, жизни и человека, которые созданы из противоречий и постоянно колеблются между противоположностями:
Эта ода Тредиаковского - своеобразный концентрат мироощущения, свойственного ему и всем его современникам, людям той исторической эпохи, когда стремительно меняющаяся действительность создавала и представления о неограниченных возможностях в преобразовании реальности, и ощущение зыбкости и непрочности мира, в котором нет ничего постоянного, включая и самого человека.
Силлабо-тоника индивидуального метра. Стихи ломоносовских метров С 1735 г. Тредиаковский, осуществивший тоническую реформу силлабического стихаи выработавший свой собственный метр,начинает писать стихи этим метром. Приверженность к нему он сохранил на всю жизнь, хотя к 1750-м гг. он освоил ломоносовские метры, а к началу 1760-х разработал метрический аналог античного гекзаметра - шестистопный дактило-хореический стих. Именно стихи, написанные собственным метром Тредиаковского, наиболее показательны для его индивидуальной поэтической манеры; в них сложились и основные стилевые закономерности лирики Тредиаковского, сделавшие его неповторимый стиль объектом многочисленных насмешек и пародий и послужившие главной причиной стойкой репутации Тредиаковского как плохого поэта. Между тем, он поэт не плохой, а весьма своеобразный, с четкими (хотя и совершенно небесспорными) критериями нормы поэтического стиля. Изначально эти критерии были обусловлены тем, что Тредиаковский получил фундаментальное классическое образование в католической иезуитской коллегии. Как никто из своих современников он был сведущ в древних языках и широко начитан в латинской поэзии. В известной мере латинское стихосложение осталось для него на всю жизнь идеальной стихотворной нормой. И русские стихи, особенно стихи своего излюбленного метра, он пытался приспособить к этой идеальной норме, воспользовавшись законами латинского стихосложения . Первые стихотворения, написанные тонизированным «эксаметром хореическим» Тредиаковский приложил в качестве примеров нового стихотворства к своему «Новому и краткому способу <...>». Это прежде всего эстетический манифест «Эпистола от Российской поэзии к Аполлину», в котором еще раз перечислены заслуги Тредиаковского как реформатора русского стихосложения, «Сонет», две элегии (Элегия I «Не возможно сердцу, ах! не иметь печали» и Элегия II «Кто толь бедному подаст помощи мне руку») и еще несколько мелких стихотворений («Рондо», «Мадригал», эпиграммы). В этих текстах, относящихся к 1735 г., сложились основные особенности индивидуального стиля Тредиаковского. Первое, что обращает на себя внимание в этих стихотворениях - намеренная затрудненность стихотворной речи, темнота смысла, отчасти реализующая классицистическую интерпретацию стихов как «украшенной речи» и «побежденной трудности», отчасти же являющаяся результатом ориентации Тредиаковского на нормы латинского стихосложения, которое не только допускало, но и требовало инверсии - нарушения порядка слов в синтаксических единицах. Инверсия - одна из характернейших примет индивидуального стиля Тредиаковского, которая главным образом и создает впечатление затрудненности стихотворной речи:
Подлежащее, разрывающее ряд однородных членов (О Аполлин, начальник девяти парнасских сестр, купно Геликона и пермесска звона), инверсия подлежащего и сказуемого ([Я] посылаю ти, Росска поэзия, сию [эпистолу]), разрыв определяемого слова и определения обстоятельством образа действия, которое относится к сказуемому (кланяясь, что должно, до самыя земли) - все это типичные приемы инверсии в поэтической речи Тредиаковского, которая из-за них приобретает вид почти что иностранного текста, требующего перевода на обычный разговорный язык. Но именно это - максимальное отделение стихотворной речи от прозаической - и было целью Тредиаковского: его синтаксис - это полная стилевая аналогия его ритмической реформе стихосложения, преследовавшей цель принципиального расподобления стихотворного ритма и ритма прозы. Приметой латинской нормы стихотворной речи была и исключительная любовь Тредиаковского к восклицательным междометиям, которые могли появляться в его стихах в любом месте, независимо от смысла стиха:
Впрочем, эти междометия не только обозначали особую эмоциональную приподнятость стихотворной речи; у них было и еще одно, гораздо более практическое и, можно сказать, техническое назначение: подогнать стих к нужному ритму чередования ударных и безударных слогов. По мере овладения техникой стиха количество этих междометий у Тредиаковского заметно сокращается; в ранних же его силлабо-тонических стихах междометий и выполняющих те же функции вспомогательных частей речи («так», «что», «уж», союзов «и», расположенных без всякой синтаксической необходимости, глаголов-связок, местоименных форм и др.) настолько много, что это тоже существенно характеризует индивидуальный стиль Тредиаковского, не только намеренно усложненный, но и вынужденно многословный. Характерным признаком латинского стихосложения является вариативность произношения слова: в стихах, где принципиально важна позиция долгого гласного, и в прозе, где она не имеет жесткой закрепленности, слова произносились по-разному с акцентологической точки зрения: поэтическое ударение в латинском слове во многих случаях не совпадало с реальным ударением. В случае с Тредиаковским это свойство латинского стихосложения отозвалось возможностью смещения ударения в слове. Согласно закономерности чередования ударных и безударных слогов в стихе, Тредиаковский считает возможным менять позицию ударения:
И уже здесь, в этой ранней силлабо-тонике Тредиаковского, обозначилась, может быть, главная особенность его поэтического стиля, сослужившая ему как литератору самую плохую службу: безграничной свободе инверсии и безграничной свободе в обращении со смыслом и звуковым составом слова соответствует такая же безграничная свобода в словосочетаниях. Тредиаковскому ничто не мешает совместить в пределах стиха самый архаический славянизм с самым просторечным и даже грубым словом. Это свойство индивидуальной стилевой нормы Тредиаковского стало особенно заметно после того, как Ломоносов систематизировал открытия Тредиаковского в области русского стихосложения, и Тредиаковский, освоив ломоносовские метры, стал писать стихи в обеих поэтических системах - своей и ломоносовской. В том случае, когда Тредиаковский пишет в системе ломоносовской метрики, он свободно и спокойно держится в пределах общепоэтических стилевых норм; так могли бы писать и Ломоносов, и Сумароков; это хороший усредненный поэтический стиль эпохи:
Но как только Тредиаковский начинает писать стихи своим метром, так сразу появляются все характерные приметы его индивидуальной стилевой нормы: инверсии, многословие, вспомогательные слова, стилевые диссонансы в словосочетаниях:
Именно эта полемическая тенденция определяет своеобразие силлабо-тонической лирики Тредиаковского, усваивающей ломоносовские метры. Тредиаковский не мог не видеть, что за Ломоносовым, а не за ним пошла русская поэзия, что он и сам должен был освоить ломоносовские метры, чтобы остаться в литературе. И о том, что поэтического дарования Тредиаковскому на овладение ломоносовской системой вполне хватало, свидетельствует целый ряд силлабо-тонических текстов, относящихся к началу 1750-х гг. Будучи с формальной точки зрения безупречными силлабо-тоническими текстами, эти стихи предлагают вместе с тем и оригинальные жанровые варианты торжественной и духовной оды:
Постоянное стремление Тредиаковского к поэтическим экспериментам выразилось в этих и подобных им стихах в осознанном отталкивании от канона: меняя метрику и строфику торжественной и духовной оды («Ода благодарственная» написана трехстопным ямбом, а в «Парафразисе...» дан образец оригинальной пятистишной строфы с удвоением одной из рифмующихся строк), Тредиаковский добивался вариативности лирических интонаций оды, избегая ритмической монотонии, которой чреват жесткий формальный ломоносовский канон. В 1750-х гг. Тредиаковский переписал силлабо-тоническим стихом несколько своих ранних силлабических текстов, которые он считал особенно важными, в том числе и написанную в 1734 г. «Оду торжественную о сдаче города Гданска», которая на 5 лет опередила первую торжественную оду Ломоносова на взятие Хотина (1739) и, между прочим, послужила для Ломоносова образцом канонизированной им впоследствии десятистишной одической строфы. К 1750-м гг. торжественная ода Ломоносова уже четко определилась в своих жанровых и метрических признаках, но, тем не менее, Тредиаковский, переделывая свою гданскую оду и сохраняя ее строфику, демонстративно пишет ее не ломоносовским ямбом, а своим любимым хореем:
Но слишком часто подобные эксперименты оканчивались плачевно для литературной репутации Тредиаковского: пока он держался общеупотребительного поэтического стиля, он писал нормальные стихи, средние или даже хорошие, но как только он пытался внести свою индивидуальную стилевую норму в уже устоявшуюся жанровую форму, он создавал очередной повод для остроумия Сумарокова или последующих поколений пародистов. Так, одним из самых смелых жанровых экспериментов Тредиаковского является попытка перевести в чисто лирическую сферу поэтику ораторской торжественной оды - тоже полемическая акция против ломоносовской нормы. Используя метрику, строфику и архаизированную лексику торжественной оды, ориентированной на государственную политическую проблематику, Тредиаковский написал пейзажную оду «Вешнее Тепло», где довел до логического предела стилевые тенденции одического языка, максимально архаизированного по своему стилевому составу. Но если в ломоносовской оде архаизмы, лексически оформляющие абстрактную понятийную образность торжественной оды, смотрятся вполне естественно, то описательная пейзажная ода, тяготеющая к конкретно-изобразительной пластике, противится им и по самому своему жанровому определению, и по силе ассоциативной традиции русской литературы XVIII в., связывающей пластический тип образности с разговорным просторечием сатиры. Тредиаковский же явно перебрал по части славянизации одической лексики: соловей в «Вешнем Тепле» назван «славий», но его пение - «хлестом» («славий хлещет»), «хворостина» - «хврастиной»; усеченные формы славянизмов «благовонность» - «вонность» и «благоухание» - «ухание» рядом с неологизмом «вноздрять» (нюхать) производят впечатление почти что просторечных слов. И даже сочетания славянизмов выглядят таким же резким стилевым диссонансом, как сочетание славянизма с просторечным русизмом:
Уже у современников Тредиаковского подобные стихи и стилевые эксперименты вызывали чувства, далекие от восхищения. Однако же, как известно, от великого до смешного - один шаг; и в обратном исчислении - от смешного до великого - расстояние ничуть не больше. При всем своеобразии своей индивидуальной стилевой нормы Тредиаковский не остался без наследников. В своей статье «В чем же, наконец, существо, русской поэзии и в чем ее особенность» (1846) Гоголь, характеризуя стиль Державина, заметил: «Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина» . Однако, как мы видим, до Державина именно на это отважился Тредиаковский - и тот же самый прием, который у Тредиаковского слишком чреват комизмом, у Державина станет воплощением величия его поэтической манеры и мощи стиля. И позиция намеренно затрудненной речи тоже не осталась индивидуальным свойством Тредиаковского. Правда, не в поэзии, а в прозе ее подхватил Радищев, намеренно затруднивший стиль своего «Путешествия из Петербурга в Москву» огромным количеством лексических и синтаксических архаизмов - и, конечно, совершенно не случайно то, что в качестве эпиграфа «Путешествию...» предпослан стих Тредиаковского, обозначающий ту литературную традицию, наследником которой считал себя Радищев.
Переводы западноевропейской прозы. «Езда в остров Любви» как жанровый прообраз романа «воспитания чувств» Другой важнейшей отраслью литературнойдеятельности Тредиаковского были переводы западноевропейской прозы. Его трудамиранняя русская повествовательная традиция обогатилась тремя переводами западноевропейских романов - «Езда в остров Любви» Таллемана (написан в 1663 г.), «Аргенида» Барклая (1621) и «Странствие Телемака» Фенелона (1699). В переводах Тредиаковского они увидели свет соответственно в 1730, 1751 и 1766 гг. Эти даты на первый взгляд свидетельствуют о том, что Тредиаковский безнадежно архаичен в своих литературных пристрастиях: разрыв между временем создания текста и временем его перевода на русский язык составляет в среднем около века, и в то время, когда Тредиаковский перевел «Езду в остров Любви», вся Европа зачитывалась авантюрно-плутовским романом Лесажа «Жиль Блаз», а автор другого знаменитого романа - семейной хроники «История Тома Джонса, найденыша» Генри Филдинг как раз дебютировал как литератор. Однако эта архаичность литературных пристрастий Тредиаковского - только кажущаяся. Во всех трех случаях его выбор строго мотивирован особенностями национального литературного процесса. Несмотря на свою кажущуюся архаичность, выбор Тредиаковским «Езды в остров Любви» демонстрирует острое литературное чутье молодого писателя и точное понимание запросов современных ему читателей. Так же, как военно-морской и торговый флот был символом всей новизны русской государственности, политики и экономики, тяга к галантной любовной культуре Запада и новое качество национального любовного быта, отразившееся и в безавторских гисториях, и в любовных песнях Петровской эпохи, стала знаком новизны эмоциональной культуры русского общества и показателем процесса формирования нового типа личности, порожденного эпохой государственных преобразований. Энциклопедия любовных ситуаций и оттенков любовной страсти, которую роман Таллемана предлагал в аллегорической форме, была воспринята в России как своего рода концентрат современной эмоциональной культуры и своеобразный кодекс любовного поведения русского человека новой культурной ориентации. Поскольку это была единственная печатная книга такого рода и единственный светский роман русской литературы 1730-х гг., его значение было невероятно большим; как заметил Ю. М. Лотман, «Езда в остров Любви» стала «Единственным Романом» . Роман Таллемана написан в форме двух писем героя, Тирсиса, к своему другу Лициде; в них повествуется о путешествии, которое Тирсис в сопровождении Купидона совершил по острову Любви, о встрече с красавицей Аминтой и бурной страсти, которую она вызвала у Тирсиса; об измене Аминты и попытках Тирсиса утешиться в любви сразу к двум девушкам, Филисе и Ирисе, о том, наконец, как Тирсис покинул остров Любви, где он знал сердечную муку, и последовал за богиней Славой. Примечательно, что сюжет романа развивается сразу в двух литературных формах - повествовательной прозе и поэзии: всем перипетиям странствия Тирсиса по острову Любви неизменно сопутствуют стихотворные вставки. География острова Любви тесно связана с разными стадиями любовной страсти: путешествуя от города к городу, посещая деревни и замки, идя вдоль берегов реки или озера, поднимаясь на гору, герой романа последовательно проходит все ступени любовного чувства: его путешествие начинается с местечка Малые прислуги, где Тирсис видит во сне Аминту и встречается с Купидоном; последний ведет его в Объявление, то есть объяснение в любви; однако по дороге они встречаются с Почтением, которое, упрекая Тирсиса в поспешности, ведет их в замок Молчаливости, где правит его дочь Предосторожность:
В крепости Молчаливости Тирсис видит Аминту, и она догадывается о его любви, потому что на этой стадии любовного чувства влюбленные объясняются не словами, а глазами и вздохами:
Догадавшись о любви Тирсиса, Аминта удаляется в пещеру Жестокости, возле которой поток Любовных слез («Сему потоку быть стало // Слез любовничьих начало» - 107) впадает в озеро Отчаяние, последний приют несчастных влюбленных («Препроводивши многи дни свои в печали, // Приходят к тому они, дабы жизнь скончали» - 107), и Тирсис близок к тому, чтобы броситься в это озеро. Но дева Жалость выводит Аминту из пещеры Жестокости, и влюбленные попадают в замок Искренности, где происходит объяснение. Далее путь ведет их в замок Прямыя Роскоши - апофеоз любви, где сбываются все желания. Но с вершины самой высокой горы, Пустыни Воспоминовения, Тирсис видит неверную Аминту с другим возлюбленным в замке Прямыя Роскоши. Его отчаяние пытаются умерить Презор (гордость) и Глазолюбность (кокетство); Презор взывает к его чувству чести и достоинства, а Глазолюбность посылает в местечки Беспристрастность и Забава, где можно любить без муки. В результате безутешный Тирсис, утративший Аминту, покидает остров Любви, следуя за богиней Славой:
Таким образом, разные стадии любовного чувства, переживаемого Тирсисом на острове Любви, воплощены в разных географических пунктах, а персонажи романа - Почтение, Жалость, Досада, Честь и Стыд, Рок, Презор, Купидон - это аллегорические воплощения любовных эмоций. Последовательно встречаясь с Тирсисом и становясь его временными спутниками, эти персонажи символизируют в своих фигурах последовательное развитие любовной страсти - от зарождения любви до ее окончания. В тексте Таллемана идеальная, понятийная реальность эмоциональной духовной жизни воссоздана при помощи пластических воплощений абстрактного понятия в аллегорическом пейзаже (скала, пещера, озеро, поток) или аллегорической фигуре персонажа, характер которого определяется тем понятием, которое он воплощает (Почтение, Предосторожность, Жалость, Кокетство и др.). Таким образом, роман Таллемана оперирует теми же самыми уровнями реальности - идеологическим, или эмоционально понятийным, и материальным, пластическим, из которых складывалась целостная картина мира в эстетическом сознании XVIII в. Еще одной причиной, определившей успех романа «Езда в остров Любви», была подчеркнутая сосредоточенность его сюжета в мире частных и интимных человеческих переживаний, как нельзя лучше соответствовавшая обостренному личностному чувству, характерному для массового культурного сознания начала XVIII в. Однако и здесь мы можем наблюдать характерную для эпохи двойственность: при том, что любовь как таковая - это чувство сугубо личное и индивидуальное, оно является и универсальным, общечеловеческим чувством:
Следовательно, как это ни выглядит на первый взгляд парадоксальным, именно через культуру любовного чувства, при всей его частности и интимности, человек не только способен осознать себя индивидуальной личностью, но и способен отождествить себя с любым другим человеком - а это уже значит, что он поднимается до высоких общественных страстей. Наконец, своеобразная литературная форма романа «Езда в остров Любви», написанного прозой и стихами, тоже не могла не привлечь внимание русского писателя и русских читателей. Двойное лироэпическое проигрывание сюжета «Езды в остров Любви» в эпическом описании странствий Тирсиса по материальному пространству вымышленного острова и в лирическом стихотворном излиянии любовных эмоций, которые в совокупности своей создают картину духовной эволюции героя, - все это придавало объемность романной картине мира, объединившей описательно-пластический и выразительно-идеальный аспекты литературного мирообраза. Так, в новой русской литературе появляется первообраз грядущей модели романного повествования, объединяющий два существенных жанрообразующих признака романного эпоса - эпоса странствий и эпоса духовной эволюции. А поскольку сюжет романа целиком сосредоточен в области частной эмоциональной жизни человека, то можно сказать, что перевод Тредиаковского предлагает русской литературе своеобразную исходную жанровую модель романа «воспитания чувств».
«Тилемахида» как жанровая модель политико-государственного воспитательного романа-эпопеи Предпринятый Тредиаковским в 1760-х гг. стихотворный перевод прозаического романа Франсуа Фенелона «Странствия Телемака» (первое французское издание - 1699г.) предлагает совсем другую жанровую модификацию романа и в подлиннике, и в переводе. Франсуа Салиньяк де ла Мотт Фенелон был воспитателем герцога Беррийского, наследника французского престола. В своем романе «Странствия Телемака» он изложил свою педагогическую концепцию и свои взгляды на природу монархии и ее общественное назначение. Именно в романе Фенелона идеал просвещенной, законосообразной монархии нашел свое художественное воплощение. Сюжет «Странствий Телемака» восходит к 1-4 песням поэмы Гомера «Одиссея», в которых повествуется о том, как сын Одиссея, Телемак, отправился искать своего отца. Фенелон значительно расширил географию странствий Телемака, заставив его посетить все страны античного Средиземноморья, включая Финикию и Египет. Это расширение географии понадобилось Фенелону с определенной целью: таким образом он провел своего героя через знакомство со всеми системами государственного правления - от абсолютной монархии и тирании до торговой республики. В результате жизненного опыта и наблюдений, которые дало ему путешествие, а также в результате наставлений богини мудрости Афины-Паллады, принявшей облик воспитателя Ментора, Телемак возвращается на свой остров Итаку просвещенным монархом. Облекая свой политико-воспитательный трактат в образы и сюжет античного эпоса, Фенелон следовал традиции жанра государственно-политического романа, предписывавшей поучать, забавляя. Для Тредиаковского в романе Фенелона было, таким образом, два привлекательных аспекта - идеологический (концепция просвещенной монархии) и эстетический (сюжетная связь с гомеровским эпосом). Что касается идеологии, то здесь перевод Тредиаковского является неотъемлемой частью русской просветительской литературы, стремившейся реально преобразовать характер русского самодержавия путем внушения монарху представлений о его идеальном облике и истинных обязанностях. Один из основных идеологических лейтмотивов перевода Тредиаковского - концепция законосообразной монархии, в которой царь есть первый исполнитель общеобязательных законов:
Второй, не менее важный идеологический лейтмотив «Тилемахиды» - это необходимость воспитания и просвещения будущего властителя. Все приключения и встречи, которые ждут Телемака в его странствиях в поисках Одиссея, неизменно преследуют одну и ту же цель: дать жизненный урок, возможность на собственном опыте постигнуть заблуждение и истину, горе и радость для того, чтобы будущему монарху стали внятны общечеловеческие чувства. Это параллельное воздействие на чувства и разум Телемака достигается в результате жизненного опыта, обретаемого им в путешествии, и усвоения моральных правил, преподанных мудрыми наставлениями его спутника и руководителя Ментора-Афины Паллады, которая ведет своего воспитанника к конечной цели странствия; и этой целью является не только обретение отца, но и становление личности Телемака как будущего идеального монарха:
В результате идеологический роман, переведенный Тредиаковским, стал таким же потрясением основ - но на сей раз уже не нравственных, а политических, - каким для 1730-х гг. являлся перевод любовного романа «Езда в остров Любви». И если любовный роман принес Тредиаковскому неприятности со стороны служителей церкви, то «Тилемахида» вызвала неудовольствие императрицы Екатерины II, истинной причиной которого было неудобное в политическом отношении содержание «Тилемахиды»: апология законосообразной монархии звучала особенно остро в случае с Екатериной II, которая заняла русский престол максимально незаконным путем. Другой аспект перевода Тредиаковского - эстетический - не менее важен в перспективе развития русской литературы. Здесь первостепенное значение приобретает тот факт, что Тредиаковскии перевел прозаический роман Фенелона стихами, причем совершенно оригинальным, им самим разработанным метром - силлабо-тоническим аналогом гомеровского гекзаметра. Руководствуясь соображением о гомеровском характере сюжета Фенелона, Тредиаковскии счел необходимым не только перевести прозу Фенелона стихами, но и создать специальный метр, который был бы максимально близким ритмическим аналогом гекзаметров Гомера. С точки зрения силлабо-тоники таким аналогом стал шестистопный дактиль: структура дактилической стопы, состоящей из одного ударного и двух безударных слогов, так близко, насколько это возможно в языке с другой акцентологией, передает ритм чередования долгих и кратких звуков в античных гекзаметрах. Таким образом, из романа Фенелона Тредиаковскии попытался сделать что-то вроде античной эпопеи, обратившись к первоисточникам Фенелонова подражания - «Илиаде», «Одиссее» и «Энеиде». Отсюда и характерная перемена названия перевода: романному названию «Странствия Телемака» противостоит гомеровское и эпическое: «Тилемахида», образованное по аналогии с названиями античных эпических поэм. Насколько важной самому Тредиаковскому представлялась именно эта задача, и какой принципиальный смысл он придавал своим гекзаметрам, свидетельствует зачин «Тилемахиды», традиционный компонент любой эпопеи, так называемые «предложение» - обозначение основного предмета повествования - и «призывание» - обращение к музе за вдохновением:
И, облекая в гомеровские гекзаметры повествование о странствиях Телемака, Тредиаковский последовательно стремился воспроизвести характерные приметы именно гомеровского эпического стиля. Одной из основных таких примет стали так называемые составные эпитеты, образованные от двух разных корней и передающих сложный комбинированный признак. Подобными эпитетами насыщен перевод Тредиаковского: «море многопагубное», «сын отцелюбный», «стихопевец громогласный», «краса женолична», «труд многодельный», «камни остросуровы», «день светозарный» - все это создает основу особого, гомеровского стиля в русской поэзии. С точки зрения своей ритмики гекзаметры Тредиаковского, которые он считал возможным разнообразить, заменяя отдельные стопы дактиля стопами хорея, чтобы еще больше приблизить русский силлабо-тонический метр к ритму древних греческих и латинских гекзаметров, ничем не уступают гекзаметрам его поэтических наследников - Гнедича и Жуковского, поэтов, которым принадлежат классические русские переводы «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. Роль Тредиаковского для этих переводов неоценима - поистине, он создал гомеровские стих и стиль русской поэзии, и без гекзаметров «Тилемахиды» эти переводы просто не могли бы состояться. В этой выработке форм поэтического перевода гомеровского эпоса - огромное историко-литературное значение «Тилемахиды» Тредиаковского в национально-поэтической традиции. Однако это значение не исчерпывается только формально-стиховым аспектом перевода Тредиаковского. При всем субъективном стремлении Тредиаковского переписать роман Фенелона гомеровскими гекзаметрами, при том, что это стремление увенчалось в «Тилемахиде» многими удачами и рядом прекрасных стихов, при том, что сам Тредиаковский своим переводом хотел создать для русской литературы образец эпической поэмы - жанра, особенно трудно ей дававшегося, при всем этом эпической поэмы он все же не создал, зато у него получилось нечто иное, в перспективе развития русской литературы как бы не более значительное, чем героическая эпопея. Переводя прозу Фенелона гекзаметрами, Тредиаковский, по сути дела, соединил целый прозаический род - романистику - со стихом, и его «Тилемахида» - это, фактически, первый русский роман в стихах, первообраз жанровой модели стихотворного романа, блистательно осуществленной Пушкиным в «Евгении Онегине». И если с точки зрения своих формально-стиховых признаков «Тилемахида» лежит у истоков русской поэтической гомеровской традиции, то как жанровая форма она предлагает именно романную модель: роман воспитательный, роман-путешествие, роман идеолого-политический - все это реализованные более поздней русской романной традицией жанровые перспективы «Тилемахиды». На этом пути ближайшими наследниками Тредиаковского стали Радищев и Карамзин со своими воспитательными романами-путешествиями. Более отдаленная перспектива - это классический русский роман XIX в. Нельзя не заметить, что те две жанровые модели романа, которые создал Тредиаковский своими переводами - эпос частной жизни «Езда в остров Любви», роман воспитания чувств, и эпос государственности «Тилемахида», роман просвещения разума, весьма ассоциативны тому представлению Льва Толстого о жанровых разновидностях романа, которое зафиксировано в его известном высказывании о любимой «мысли семейной» в романе «Анна Каренина» и любимой «мысли народной» в эпопее «Война и мир». Идеологический пафос «Тилемахиды» - это первое, робкое проявление того напряженного идеологического пафоса, который будет характеризовать романное творчество Чернышевского и позднего Достоевского. Разумеется, все эти «сближения далековатых идей» не нужно понимать как буквальные контактные связи. Просто Тредиаковскому в его неустанных жанровых экспериментах удалось впервые выразить некоторые особенности национального эстетического мышления в том, что касается понимания природы и особенностей романного жанра хотя бы в силу того, что он был, во-первых, энциклопедически образованным филологом, а во-вторых, русским писателем. И в том, что романные опыты Тредиаковского так широко ассоциативны по отношению к дальнейшей эволюции русского эпоса, заключается их главное историко-литературное значение. Но для того чтобы эта жанровая преемственность стала возможной, русской литературе понадобился большой период развития, в течение которого в эстетическом сознании читателей и писателей укреплялась идея возможности синтетических жанровых форм, объединяющих в себе инварианты оппозиционных жанровых моделей. У истоков этого процесса лежит творчество А. П. Сумарокова, младшего современника Кантемира, Ломоносова и Тредиаковского. При том, что жанровые модели литературного наследия Сумарокова по видимости замкнуты в своих канонических формах, сам факт соседства высоких и низких жанров в его индивидуальной авторской системе обеспечивает дальнейшую возможность их взаимопроникновения и скрещивания.
См. о нем подробнее: Дарвин М. Н.
«Стихи на разные
случаи» В. К. Тредиаковского: «свое» и «чужое» // Циклизация литературных
произведений. Системность и целостность. Кемерово, 1984. С. 23-30.
Тредиаковский В.К.
Избранные произведения. Л., 1963.
С. 56-58. Далее тексты Тредиаковского цитируются по этому изданию с указанием
страницы в скобках.
Подробнее об этом см.: Гуковский Г. А.
Русская литература
XVIII века. С. 70-74.
Гоголь Н. В.
Собр. соч.: В 7 т. М, 1967. Т. 6. С. 373.
Лотман Ю. М.
Избранные статьи: В 3 т. М., 1992. Т.
2. С. 27.
Образ жизни и творчества Тредиаковского.
В. К. Тредиаковский (1703-1769гг)
Родился в Астрахани в семье священника. В 19 лет бежал из своего города в Москву, где поступил в Славяно-греко-латинскую Академию. Через 2 года бежал в Голландию, а затем отправился в Сарбонну. В 1730 году Тредиаковский возвращается в Россию широко образованным человеком, поэтом и переводчиком.
Основные этапы творчества:
1) Перевод П. Таллемана "Путешествие на остров Любви или Ключ к сердцу". Это произведение стало первым в России развлекательным романом => Тредиаковский становится переводчиком и секретарем в Петербургской Академии наук.
2) Василий Кириллович берется за реформирование всей русской поэзии. В 1735 году выходит первая русская книга по теории поэзии.
("Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий"). Эта книга обозначала начало переворота в профессиональном стихосложении: переход от силлабической к силлабо-тонической системе. Тредиаковский сумел сблизить силлабическое стихосложение с тонической поэзией. Но теория значительно обгоняла практику в то время, и поэтому эта система далась не легко и самому автору. "Похвальнын стихи России" - попытка.
3) В 1752 году Тредиаковский под влиянием Ломоносова вносит ряд изменений в "Новый и краткий способ.." И одновременно создает новый трактат - исследование по истории русского стихотворства.
4) Перевод курса античной истории (который занимает у него 30 лет) и восстановление рукописи тринадцати томов.
Но, несмотря на все подвиги, которые он совершил при жизни, жизнь В. К. Тредиаковский закончил в бедности. Отношения его с окружением портились, умер он в нищете. По сути главной причиной этому был неосторожный диалог Лажечникова с Пушкиным.
Мнения о нем в истории сложились разные: вечный труженик и "подлый писачка".
"Езда в остров Любви" и "Тилемахида":
1) Первый в России развлекательный переводной роман - о любовных ухаживаниях и забавах, о "науке страсти нежной". Роман был встречен восторженно, особенно читателями - придворными. Тредиаковский был представлен императрице Анне Иоанновне, был назначен секретарем и переводчиком в Академии наук. Именно тогда автор и намечает грандиозные планы. Еще в предисловии к переводу романа Тредиаковский выдвинул идею совершенствования литературного языка путем освобождения его от устаревших церковнославянских слов и сближения с разговорной речью; эту идею он стремился воплотить в переводе. Сразу после этого автор берется за реформирование всей русской поэзии. Таким образом, можно сделать вывод, что "Езда в остров Любви" являлась первым важным этапом в реформировании языка.
2) "Тилемахида" - следующий важный этап реформирования языка. "Вулканический" этап. Почему вулканический? Петровские преобразования резко расширили потребность в новых понятиях, и в русскую речь широко вливались иностранные слова; церковно-славянский книжный, литературный язык сталкивался с просторечием. Требовалась громадная бота писателей и ученых, чтобы этому хаотическому изобилию придать ясность и стройность. Тредиаковский был одним из зачинателей этой работы, он основал её цели и формулировал их.
В своей поэме он создал тот самый стихотворный размер, которым в дальнейшем передавали древнегреческий гекзаметр все русские поэты.
Билет8. Своеобразия личности Ломоносова и его поэзии. Реформа стихосложения. Теория «трех штилей».
Показался остров Рейнеке. Над ним повис туман, как меховая шапка, нахлобученная на голову беспризорного подростка. От причала нужно было идти через сопку лесной тропинкой минут тридцать неспешным шагом. Дачный двухэтажный дом приютился на берегу уютной бухты, метрах в пятнадцати от кромки моря, на отшибе. Над домом со склона отлогой сопки нависали деревья - широколиственные дубы, огромная липа с отцветшими кистями, берёзы, нежный амурский бархат. К полудню туман рассеялся.
Море улыбалось глубиной души, - весело пропела Марго.
Тишина притаилась. Было слышно, как на противоположном берегу лагуны под чьими?то ногами осыпалась галька. Орест прикинул на глаз, что он мог бы переплыть бухту без труда, и, не долго думая, с щенячьим восторгом кинулся к воде, разбрасывая позади себя одежду. Марго настраивала кинокамеру. Она уже усвоила несколько уроков из эстетики английского писателя Дэвида Лоуренса и была не прочь поиграть в «пастушку и пастушка».
Кинокамера стрекочет, словно кузнечик. Орест выходит из моря, слегка теряя равновесие; его волосы рассыпаются мокрыми прядями по плечам. Улыбка во весь рот обнажила сломанный зуб. Родинка на правой щеке уползает на скулы. Ей нравится быть вуайеристом с кинокамерой, нежели просто сидеть на скамейке и наблюдать за своим мужчиной. За его спиной солнце: он как будто идёт в море по солнечной дорожке, усеянной золотой лузгой. Щёлк! Тринадцать секунд долой!
Ну вот, киносеанс начался, - сообщает Марго, подавая розовое махровое полотенце.
Как здесь пахнет! - говорит Орест, вдыхая воздух.
Его грудная клетка вздымается, подтягивая живот. Марго пересчитывает рёбра указательным пальцем. Рука медленно опустилась на бедренную косточку и тут же отпрянула. Марго смутилась, на шаг отступила назад.
Как водичка? Тёпленькая?
Орест делает глупое лицо, закрывает веки и просто мычит, выражая удовольствие. Они присаживаются на скамью под яблоней, которая растёт в самом центре круглого столика, выкрашенного синей краской. Лучи полуденного солнца проникают сквозь листву, усеивают счастливые лица любовников. Леди поглядывает на молодого «садовника» со всеми его милыми поэтическими непристойностями. Они еще не заходили в дом, за которым в отсутствие хозяев следит одна семейная пара из деревни на острове. Лёгкий бриз прошелестел в листве яблони. Это ветер запустил пальцы в её душистую крону, обнажив зелёное яблоко.
Со стороны дома, сверху чуткое ухо Ореста улавливает тонкие, как паутинка, звуки: дзинь, син, ко, кин, дзинь… Кажется, это капельки дождя поочередно падают на струны, извлекая мелодию поющего ветра.
Этим звукам вторят богомолы, но более грубо и настырно, изнывая от похоти, раскатистым испанским «ррр» вперемешку с глухими китайскими «ссс» и «ццц». Откуда?то из?за ограды, из кустов шиповника отзывается подруга богомола. Вдруг они зазвенели в унисон, да с такой силой, что кажется, в порыве страсти натёрли мозоли на брюшках своими лапками. Невидимая нить протянулась через весь двор метров на пятнадцать по диагонали - снизу вверх, сверху вниз. И вдруг бдзынь! Струна, не выдержав натяжения, лопнула!
Ай! - выкрикнул Орест.
Ммм, - сладко промычала Марго, проглатывая влажные, теплые звуки «ыыы».
Если бы не шельмоватый шмель, нарвавшийся на невидимую нить любовной песни богомолов со своим презрительным «бдз», то этой музыкой могли бы наслаждаться и другие персонажи следующей сцены. Они только что подошли к железной калитке. Колокольчик известил хозяев о нежданных визитёрах.
Прикрой свой стыд! - велит Марго.
Орест нагибается за полотенцем, демонстрируя блистательный слалом своей спины. Снежный солнечный свет лавиной обрушился на Марго, в её глазах потемнело на долю секунды.
Что это за звуки такие раздаются? - спросил Орест.
А, это китайские колокольчики, они висят на карнизе дома, подарок из Японии, - пояснила Марго.
А я думал, что это у меня в голове музыка блаженства звучит, - с квинтой разочарования произнёс Орест.
Поющий ветер, - говорит Марго, удаляясь в сторону калитки.
Орест отправляется к морю и ложится на горячие камни, скрывшись за кустами, откуда ему слышен разговор Марго с гостями. Он уткнулся лицом в берег. Солнце припекало тело, даже пятки. Прелый запах морской травы и горячего камня, приласкавшего щеку, щекочет ноздри. Орест прислушивается к разговору и внимательно, как рисовальщик, рассматривает богомола в кустах шиповника.
Богомол, или Mantis religiosa, или, иначе, прорицатель, похож на воина. Время от времени лапки насекомого приходят в движение, словно его одолевает зуд на брюшке. Богомол чесал себя что есть мочи. Потом замирал.
Желая нарисовать насекомое, Орест изучал его строение.
В нижней части изогнутых ног богомола имеются каналы, утыканные по сторонам подвижными иглами. Голени свободно входят в эти каналы, подобно лезвию перочинного ножа, при этом острые зазубренные края смыкаются.
Вот насекомое на что?то нацелилось. Орест тоже замер, заинтригованный поведением богомола, который, раскинув полусогнутые передние лапки, словно совершающий намаз правоверный мусульманин, застыл на четырёх задних конечностях, поджидая свою жертву. Затем он стал медленно подкрадываться к ней. Из?под лапок выскользнули слюдяные золотые песчинки. Вдруг охотник, схватив мушку саблевидными лезвиями, стал быстро - быстро поглощать свою жертву.
Уфф! - выдохнул Орест, представив себя жертвой богомола.
Марго разговаривала с работниками - Машей и Борей, супружеской бездетной парой из деревни. Она отдала деньги, велела натопить баню, управиться по хозяйству. Выяснилось, что Владик и Валентин вчера вечером приехали на дачу, а с утра пораньше ушли на Красные камни. Орест вышел из?за кустов шиповника, обвязанный полотенцем. Он поздоровался, сказал, что умирает от жажды. Маша услужливо объяснила, что за оградой есть родник с ледяной водой. Орест взял стакан со столика и пошёл вдоль берега. «Хорошо здесь, тихо, никто не шастает, хоть нагишом ходи. Никто не осудит, ни на кого не надо оглядываться», - подумала Марго, провожая взглядом Ореста. Она завидовала его наивному, безобидному бесстыдству. Если бы не его легкомыслие, если бы не ветер в голове, если бы да кабы… А ведь хороший любовник, но не муж! Но как спутник жизни… Нет, на такую роль он явно не претендовал.
Она вздохнула. В синем небе белело облако - словно парус. Она присела и, опершись руками за спиной, запрокинула голову, ощущая, как на всех парусах движется не облако, а остров. Над морем порхал зигзагами огромный махаон - парусник Маака. «Мечется, как моя душа!»
Всю жизнь Марго боялась оказаться неуместной, в то время как Орест был всегда не при месте, то есть не привязанный. Кажется, остров на три дня освободил её от страхов. Он был более пригоден для их любви, чем город, грозивший ей мнимыми разоблачениями. Она не знала, что если хочешь быть влюблённой, то приготовься быть смешной девчонкой. Её страх потерять место, потерять лицо сдерживал её страсть. Они любили друг друга немногословной любовью, без признаний, не строили планов на будущее. Каждый день мысленно прощалась с ним, но расставание отсрочивалось на завтра, потом на послезавтра.
Пока Орест где?то пропадал, Марго старалась забыть о нем, как бы готовя себя к будущему одиночеству. Если ему становилось скучно, он уходил в свою мансарду или исчезал из города, или проводил время на пляже среди других бездельников. Она пребывала в своём вечном настоящем.
Поездка на остров немного расслабила Марго, дала слабую передышку её страхам. Орест приручил её к себе; она не знала, что делать с ним дальше. Он был как бы с ней и сам по себе - вольный, блудный пёс. Марго жила с ощущением страшной неизбежности, непоправимости, надвигающейся пустоты, которая не освобождала от иллюзий, а была тем самым «местом», к которому привязывалась её душа…
Шорох гальки отвлёк её от мыслей. Это приближался Орест с запотевшим стаканом воды. В нём преломлялось солнце, рассеивая лучи на животе. Марго залюбовалась игрой света на смуглой коже, забывая всё печальное. Орест жестом предлагает выпить. Она протягивает руку, с Ореста спадает полотенце, обнажая его чресла. Марго испуганно оглядывается по сторонам. Из стакана выплёскивается вода на её лицо. Марго ахает:
Какая ледяная!
Орест рассмеялся. Она схватила полотенце, быстро прикрыла его срам, и только потом краем вытерла своё лицо. После лёгкого завтрака на воздухе - бутерброда с сыром и колбасой - Орест пошёл обследовать побережье, прихватив с собой кинокамеру.
Осторожно, не разбей! - предупреждает она.
Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа!
Солнце переместилось на запад, стоит еще высоко, его свет заливает всю акваторию, где вдалеке беспризорно кочуют несколько парусников. Взгляд Ореста привлекает лодка на берегу, а также скальная гряда, выступающая из воды, словно выбросившееся на берег морское животное, похожее на котика или дельфина. Его ничто не тревожит, сердце - пустая раковина, наполненная иллюзорным морем, шумом ветра, прошлым штормом. Орест достал кинокамеру, заправил плёнку, вставил батарейку. Из?за скалы вышел человек, он пытается столкнуть в море лодку.
Осенённый мыслью снять на плёнку панораму побережья по кругу из середины бухты, Орест направился к лодке. Владельцем оказался парнишка лет пятнадцати - ловец мидий и трепангов. Он щурил серые глаза, то и дело убирал со лба выгоревшие волосы, веснушчатый нос забавно шелушился. В лодке лежали маска и ласты, острога, зелёная сетка для улова, вроде авоськи, а также вёсла. На берегу валялась куча чёрных длинноватых раковин мидий, напоминающих гигантскую шелуху семян подсолнечника.
Орест объяснил, что он хотел, паренёк согласился. Вдвоем взявшись за лодку, они столкнули её в море. Орест предложил грести. Он обрадовался возможности снять хороший вид, но для этого нужно было отплыть немного дальше от места обычного промысла.
Вода была такой прозрачной, что казалось, если протянуть руку, то можно достать со дна морского ежа. Берег огибал бухту подковой. На краю скрывалась в листве деревьев дача. Орест заметил, как по его следу отправилась Марго. Парень скинул с себя одежду, остался в одних синих трусах. Натянул ласты и маску. Глубоко вздохнув, он нырнул с лодки. Орест наблюдал. Во дворе дома появились какие?то люди. Их было двое. Они махали руками, как бы выясняя отношения, слышны были голоса.
Орест перезарядил кинокамеру и стал снимать круги на воде, побережье, чайку, крохотную Марго, идущую вдоль сопки, примыкающей к берегу, и вот круги разомкнулись и убежали в перспективу, к линии горизонта, где выступали скалы, похожие на парусники. Паренёк еще находился под водой. Орест стал волноваться. «Минута, видимо, еще не истекла», - подумал он, отгоняя худые мысли. Скинув одежду, он нырнул. Пустая лодка покачивалась на волнах. На неё набежала тень облака…
Марго потеряла Ореста, пошла на его поиски. В левой руке, с колечком на пальце, она держала целое яблоко для него, а в правой - надкушенное, для себя. Оса, увлечённая ароматом яблока, с надкуса заползла между пальцев. Марго вскрикнула и выронила из руки яблоко.
Она наклонилась, чтобы подобрать его с земли, заметила выползшего на берег крохотного крабика, греющегося на солнце. У него была одна клешня, и этой клешнёй он потирал себе панцирь.
Что, утешаешь себя, да? - насмешливо спросила краба Марго.
Вдали покачивалась лодка, залитая потоком лучей. Перед глазами у неё померкло. Вдруг лодка стала стремительно приближаться, размахивая крыльями. Потом она раздвоилась, и Марго поняла, что это был черный махаон, летевший ей навстречу. Сердце ёкнуло. Её предчувствия не обретали очертания какого?либо образа. Она объяснила всё это повышенным давлением. «Видимо, перегрелась на солнце», - подумала Марго и решила вернуться за панамой.
В паре шагов от берега раскинулась поросшая клевером поляна в тени деревьев, где можно было играть в футбол, натянуть две - три палатки, собирать друзей на барбекю. Здесь стоял длинный стол, сколоченный из досок, покрашенных синей краской, со скамьями по обе его стороны; над ним свисали гроздья давно отцветшей старой липы, её толстый, в два обхвата ствол наклонялся на крутой сопке.
Нога Марго в сиреневой тупоносой туфельке без каблука ступила на поляну, а подол льняного платья, усыпанного голубенькими васильками, зацепился за куст шиповника. Пока Марго отцепляла платье, мимо неё прошли, шурша камнями, ловцы трепангов. Она сопроводила их подозрительным взглядом. Ей не нравилось, что через их побережье ходят всякие личности. Их дом стоял почти впритык к сопке, а чуть дальше высились скалы почти без береговой кромки: там не отдыхали, однако для промысла место было благодатное.
Мысль о хрупкости счастья не покидала Марго. Она шла по тропинке, спугнула сороку, рыскавшую на пепелище костра, огороженном валунами среди буйно зеленеющего клевера. Другая сорока долбила улитку на краю поляны. Большие красные стрекозы в брачном полёте шелестели прозрачными крыльями, сверкающими на солнце, словно золотые чешуйки. Она присела на скамью, чтобы вытряхнуть из туфли камешек, и, оставшись наедине со своими мыслями, загрустила. «Лёгкий прибой окаймлял тишину… Тишина шелестела крыльями стрекозы… В раковине погибшей улитки спрятала рожки тишина…» Марго принаряжала свои чувства в пустые оболочки слов. Она представила, будто Ореста никогда и не было, что он просто вымысел, самый замечательный вымысел в её жизни, а вымыслы пребывают вечно, они, однажды возникнув, уже никогда больше не исчезают, в отличие от любовников, которые приходят и уходят, оставляя за собой хлопок двери в пустой комнате.
Этот воображаемый хлопок отозвался в её сердце острой болью. Сделав глубокий вдох, она поднялась, оправила подол платья. Железная калитка была заперта на крючок изнутри. Марго привстала на цыпочки, протянула руку и, откинув крючок, отворила калитку.
Когда она проходила через двор, хлопнула дверь в баню. Марго оглянулась, но не придала этому значения, будучи уверенной, что это Боря хлопочет по хозяйству. Её щеки напекло. На пороге дома она вспомнила, что забыла на столе яблоки, но возвращаться не стала…
Марго поднялась на второй этаж в комнату с большим зашторенным тюлевой занавеской окном, выходящим на море, подошла к трюмо, посмотрела в зеркало.
Да, щёчки и носик подрумянились, - вслух произнесла она.
Орест любил покусывать за её мочки, приговаривая: «Да чего красивые, будто вишнёвые лепестки!» Он подкрадывался к ней со спины и кусал.
Марго знобило. Она прилегла на кровать, веки сомкнулись. В тот же миг её настиг сон, будто она сидит на берегу и расчёсывает длинные волосы черепаховым гребнем; мимо проходят юные девушки, их белокурые длинные волосы собраны в пучок, затем одна девушка приглашает её пойти вместе с ними. Они плывут в лодке добывать канзой ламинарию.
Мы идём чесать морскую траву, - сказала одна девушка.
Марго берётся за весло, чтобы грести, и чувствует прилив радости; солнце светит в глаза, она жмурится. Кто?то сказал: «Я есмь весло, приготовленное, чтобы грести…» Она купается в море, открывает глаза, а навстречу ей плывёт дельфин с хитрой улыбкой. Она открывает рот, чтобы поприветствовать его, но слова запали куда?то внутрь, и речь не слышна. Когда он скрылся в глубинах среди зарослей морской травы, она поняла, что это был Орест, а не какой?нибудь дельфин, и обрадовалась хорошему сновидению…
* * *
Владик! - возмутился Валентин. Он едва успел отскочить от двери, захлопнувшейся со всего маху перед его носом. - Что с тобой случилось? Ты уже третий раз чуть не убил меня!
Извини, я забылся. Двери кого хотят, того впускают или выдворяют, - загадочно сказал Владик, усаживаясь в белое пластиковое кресло на крыльце сауны.
Этот грохот разбудил Марго. Она открыла глаза: потолок в трещинах, жёлтая люстра, похожая на цветочную вазу, висящую кверху дном; кое - где осыпалась извёстка. Марго потянула пальцы ног - вперёд, назад. Она не замечала паука, спускающегося с доброй весточкой. «Где же Орест? Не утонул ли? Тьфу! Тьфу! Как бы на солнце не перегрелся…» - беспокоилась она спросонья. Марго зевнула. Она вспомнила сон, улыбнулась.
Пышущие жаром, две обнажённые мужские особи сидели друг против друга и энергично жестикулировали. Если бы Марго выглянула в окно у изголовья, то могла бы стать невольной свидетельницей этой сцены, но она увидела тетрадь на кресле и стала её перелистывать.
Ладно, прощаю. С тобой нужно входить в такие ворота, где ни косяков, ни дверей, - произнёс Валентин.
Так входят в море или реку. Идём, искупаемся, - предложил Владик, поднимаясь со стула. Он поскользнулся. Валентин подхватил его, поставил на ноги:
Что ты сегодня на самом?то деле!
Они побежали на море по садовой дорожке.
Марго подошла к окну; во дворе никого не было. Марго перелистала несколько страниц дневника: любопытство было превыше приличия. На одной странице стояла сверху надпись «Пьеса». Она не стала читать, поднялась и вышла из дома. Во дворе никого не было - ни Владика, ни Валентина, ни Маши, ни Бори, ни Ореста, ни собаки. «Куда все подевались?» Мяукнула приблудившаяся кошка. Один её глаз был лазуритовый, другой яшмовый. Она поманила кошку, но та не отреагировала.
Ах, ты, felis cerval! - фыркнула Марго, любившая свои мысли больше, чем кошек.
Она пошла до конца дома, мимо сауны, мимо флигеля для гостей на краю двора. Какой?то человек шёл через их территорию. Марго вышла на поляну и направилась к столу, где забыла два яблока. На столе ничего не было, а на земле валялись два огрызка. Пока она собиралась с мыслями, на поляне появился Орест в сопровождении подростка. Попрощавшись с ним, Орест растянул рот в улыбке, подошел к Марго. Он вытянул вперёд руку, демонстрируя улов трепангов.
Да ты сгорел! - воскликнула Марго. - Идём, я буду тебя лечить. В холодильнике стоит банка деревенской сметаны. А пока иди в баню и ополоснись пресной водой, только не горячей!
Марго прикоснулась рукой к его груди. На коже остался белый отпечаток её ладони.
Орест пошёл в сауну, ополоснулся водой из ковша. На выходе поднял валяющееся на полу пластиковое кресло. Марго уже доставала из холодильника банку сметаны. Кто?то уже успел её ополовинить. Процедуры проводились прямо на кухне. Деревянной ложкой Марго доставала из литровой банки сметану, плюхала на плечи и медленно размазывала по всей спине. Обе её руки скользили по плечам Ореста, она ощущала все трицепсы и бицепсы. Марго велела парню встать на табурет, затем принялась намазывать грудь, живот, ноги, ягодицы. Орест, мурлыча и урча, облизывал её руки, слизывал сметану со своих плеч.
Вот ужака под вилами! На! - сказала Марго и дала облизать ложку.
Она открывала для себя новые ощущения, как будто никогда раньше не прикасалась к мужчине. Тем временем Орест балагурил, рассказывая анекдот. Марго хихикала и продолжала класть сметану на тело Ореста.
Ну вот, теперь ты как гипсовая статуя! - заключила Марго и громко рассмеялась.
Она отошла на шаг в сторону, чтобы полюбоваться своим изваянием. Орест покрутился на табуретке. Его ягодичные мускулы были твёрдыми как камень. «Если между двумя половинками, как в тиски, поместить грецкий орех, то он раскололся бы с треском», - задорно предположила Марго. Орест сокращал ягодичные мышцы ритмично, нервно, зажигательно. Ей казалось, что это горячие гарные джигиты отплясывают танец с саблями из известного балета. Какие они оба были озорники! Именно тогда ей открылось буквальное значение слов «прикалываться», «колоться», «накалывать кого?либо», «отколоть что?либо».
В таком виде она запечатлела его на киноплёнку. Орест изображал всякие римские «приапистые» изваяния. Вот забавы влюблённых! Если мгновение жизни Ореста не было наполнено эросом, то он просто умирал со скуки.
Марго этого не понимала, заставляла его «сублимировать» эротическую энергию в какой?нибудь вид безобидной деятельности для вечности. Под этим подразумевался перевод охаянного романа Хидэо Тагаки, который волей случая свёл их однажды и навсегда в метафизических сферах, удалённых от атеистической реальности, как мудрёно шутили они наперебой…
Не всё, что изобретал Орест, чтобы унять своё уныние, приводило её в восторг. Чаще всего фантазии Ореста казались ей опасными. Он был человеком, что называется, без тормозов, с сумасшедшинкой. Именно в рискованных ситуациях он испытывал наибольшее вожделение, приводя Марго в страх и трепет. Она же была женщиной пугливой, как домашняя курица. Орест постепенно стал терять интерес к Марго, которая воспринимала его эксперименты как блажь чистой воды. Поездка на Рейнеке оживила Ореста, вновь разбудила его увядшее воображение. И тут уж Марго не в силах была обуздывать фонтан его фантазий. Он одолевал её повсюду, где заставал врасплох: в проёме дверей, на лестнице, на берегу, в воде, на крыльце, на столе, в лесу.
Постель была местом для отдыха, а не любовных игрищ. Он утомил её.
Я приехала сюда отдыхать! - возмутилась она.
На Рейнеке он стал мысленно прощаться с ней, поэтому был необыкновенным, чудным, восхитительным - как никогда. Орест еще не нашёл формы прощания с ней. Если хочешь уйти от любовницы, найди ей любовника. Он продолжал её любить с озорством, и сейчас, будучи измазанным сметаной, он срывал с неё платье, словно обрывал лепестки с китайской розы.
Марго шептала:
Здесь кто?то есть, кто?то есть, тише!
Окно на кухне выходило во внутренний двор, были видны край моря и флигель. Ей показалось, что во флигеле кто?то выглянул в окно, дёрнулась занавеска, что кто?то хлопнул дверью. Её страх и опасность ещё больше возбуждали Ореста. Его секс был шумным, разрушительным и стремительным. Вот на пол упал туесок и покатился под стол, рассыпая соль…
Орест не любил чистописания, и, развивая эту метафору, можно сказать, что секс для него был чем?то вроде письма, формы творчества. Он писал грязно, его почерк можно было бы сравнить с пушкинскими черновиками, его грубыми откровениями в письмах о любовных похождениях…
Владик отстукивал что?то на печатной машинке. Валентин отдыхал, крутил радиоприёмник в поисках мелодии.
Какой длинный день! Ты не хочешь перекусить кое - чего из Машиных кулинарий, а? - спросил он.
Хочу, только вот поставлю точку в своём «интимном дневнике», и пойдём. А как насчёт вина? У нас есть в закромах, - сказал Владик, не поворачивая головы.
Нет, для того, чтобы писать дневники, нужно иметь темперамент бухгалтера, - сказал Валентин. - Интересно, что можно написать о сегодняшнем дне: «день провели на море»? И всё! Ну, ходили, ну купались, ну загорали, и больше ничего. А я есть в твоём дневнике?
Валентин нашёл мелодию, положил приёмник, повернулся на левый бок, подпёр голову рукой. Владик повернулся к нему:
Конечно, через каждое слово! Только ты и заполняешь мои страницы. Я тебя изучаю, как орнитолог! - со смехом сказал Владик. - Я представил, что я высадился на чужую землю, и мне всё вдруг стало интересно. Вот об этом и пишу, открываю вселенную. Представь себя клоуном, и мир станет смешным. Можно целый день просидеть на берегу моря, не сходя с места, и никогда не будет скучно. Одним усилием твоей воли будут двигаться волны…
И какая же я у тебя птица?
Имени этой птицы уже никто не помнит, но кто вспомнит, тот обретёт вечную жизнь. Она живёт в двойном гнезде и питается сердцами юношей, которые еще не знают срама.
Не слышал о такой. Эта птица живёт в стае или сама по себе?
О, это редкая птица, говорят, что она вещая. Иногда её тень пролетает над каждым, но редко кто видит её. Тень этой птицы летает сама по себе.
Я слишком тёмен для твоих метафор.
Это не ты тёмен, а тот, кто скрывается.
И кто же?
Тот, чьё слово истинно и верно.
А, тогда ясно.
Ясно то, что нам не грозят её острый клюв и когти.
Почему же?
Не знаю, как твоё, но моё сердце осквернено стыдом.
Моё - тоже, - вздохнул Валентин.
Тот, кто сохранит свою плоть и своё имя, будет жить со своим двойником.
Я понял! Мы живём ради того, чтобы воссоединиться с ним!
Да, с ним, с двойником.
Валентин выразительно посмотрел на Владика. Крылья его слегка опалённых солнцем ноздрей прядали, словно он принюхивался. Валентин тоже невольно втянул воздух, как бы прочищая нос:
Ты жутко интересный тип, и собеседник забавный, - сказал он, взяв Владика за подбородок пальцами. - В твоих глазах можно запросто утонуть. Так нырнёшь и не вынырнешь однажды. Кстати, сейчас они темней, чем днём.
О чём это ты?
О том, что не скучно с тобой, что за весь день я не вспомнил о Тамаре. Кстати, завтра подъедет. С ней тоже не соскучишься…
Что ты хочешь, артистка, как?никак! Ты знаешь, что означает этот жест? Владик тоже взял Валентина за подбородок и посмотрел в его темно - зеленые глаза с красными прожилками. «Словно подёрнутые болотной тиной», - подумал он.
Это любовный жест у греков. Когда мужчина признаётся в любви, он берёт эфеба за подбородок.
Вот так! И кто же из нас эфеб?
Они рассмеялись.
Ой - ля - ля! - как говорит Тамара Ефимовна, - сказал Валентин.
Ну так что, мы идём за вином?
Вино развязывает языки.
Они поднялись и вышли наружу. Вечернее солнце разливало оливковый свет, каталось в облаках, как сыр в масле. Прибежала пропавшая собака - сенбернар по кличке Флобер. Он повилял хвостом, потрусил следом.
На кухне они встретились с Марго и Орестом. Флобер всех обнюхал, признал; правда, на Ореста рыкнул. «Кто такой? Незнаком и пахнет чужаком». Марго подумала: «А ведь какой мог быть конфуз, если б нас застали…»
Пока собирали ужин, накрывали на стол во дворе, опустились сумерки. Был чудный семейный вечер за бутылкой красного вина.