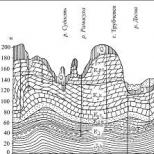Женщины и мужчины джозефа макэлроя о чем. Women and Men читать онлайн, Макэлрой Джозеф. Джозеф МакЭлрой, «Женщины и мужчины»
Перевод Александр Яворский
Если учитывать откровенно премодерновый обертон слова «канон» - может сложиться впечатление, что сама идея постмодерна выглядит как терминологический курьез. И в самом деле - один из подходов к построению постмодернистского канона раздвигает рамки настолько широко (Кэти Акер , Филип К. Дик, Grandmaster Mele Mel), что этот термин становится бессмысленным. Впрочем, в узких кругах литературной критики с каноническим постмодернизмом принято связывать, как правило, группы белых писателей определенного возраста: Барт и Бартелми, Гэддис и Гэсс, Делилло, Кувер и Пинчон.
Очевидно, что этому канону, как и предшествующему ему, не чужды упущения. И все же, в свете литературной демографии, кажется вдвойне непонятным тот факт, что Джозеф Макэлрой, которому в нынешнем году исполняется 79 лет , так настойчиво игнорируется перечнями мастеров po-mo. Подобно своему коллеге-тяжеловесу Томасу Пинчону, Макэлрой является автором восьми романов, знаменательных поистине энциклопедическим размахом изображения современной жизни. Вот что пишет The New York Times :
Эта книга принадлежит к максималистскому подвиду постмодернистского романа, к которому относятся Gravity’s Rainbow , The Recognitions и Underworld . Хотя, такая принадлежность сродни принадлежности Chevy Suburban к автомобильному классу «легких грузовиков» или Андрэ Гиганта к Мировой Федерации Рестлинга.
Если про другие книги из этой же категории можно сказать, что им тесно на пятачке жанра, то Women and Men будет тесно и на целой литературной автостоянке. Если другие книги представляют собой серьезную форму литературного исчисления, то Women and Men - это теория хаоса. И, раз уж на то пошло, если они объемные - Women and Men куда объемней. Приблизительно 700000 слов (около 1192 убористо отпечатанных страниц) - это в полтора раза больше, чем «Война и мир».
Роман попал в руки продвинутых читателей в 1987 году в виде двух 600-страничных томов. Обозреватель The New York Times не скрывал, что потратил на прочтение книги всего пару дней. Отсюда и его тон, в котором смешались признание амбициозности романа с плохо скрываемой досадой на то, что он вынужден был его прочитать. Типичный критический отзыв. По всей видимости, аудитория, интересующаяся художественной литературой, нуждалась в небольшом поощрении, чтобы проигнорировать книгу весом 4 фунта в твердом переплете. И Women and Men , на написание которых, по имеющимся сведениям ушло порядка 10 лет, стали не издательским событием, а скорее разочарованием.
Так случилось, что я питаю слабость к аутсайдерам, как впрочем, и к постмодернистским мега-романам; обзаведясь некоторым количеством свободного времени прошлым летом, я приобрел «нечитанное» первое издание Women and Men за что-то в районе 10 баксов. Я таскал эту книгу за собой повсюду шесть недель, читая в среднем около 30 страниц в день. И мне быстро стало понятно, почему эту книгу так мало читают. А впоследствии я обнаружил, что по некоторым причинам так и должно быть.
Почему это нужно прочесть… после прыжка.
Помимо вопроса о длине текста, я вскоре наткнулся на вопрос о его сложности. Фабула романа - сюжет и конспирация одновременно, - и, надо сказать, среди запутанного изложения Макэлрой делает немногочисленные уступки, предвидя некоторые читательские затруднения. На уровне сюжета Women and Men повествует о соседях по дому - Джиме Мэйне и Грэйс Кимбэлл, которым никак не удается встретиться. А уровень конспирации, в свою очередь, обнаруживает бесчисленное количество связей между ними, прослеживает личные и политические интриги, простирающиеся от Пиночетовского Чили до индейцев Пуэбло на мысе Кеннеди в Нью-Мексико.
Макэлрой предпочитает изымать ключевые моменты этих связей, и это значит, что важнейшие сюжетные загадки остаются неразрешенными - словно замкнутая цепь, одновременно включенная и выключенная. Кроме того, роман ошеломляет (полагаю, преднамеренно) память читателя. Поначалу это разочаровывает. Однако, впоследствии, делает его особенно «живым»: ближе к финальным эпизодам каждая деталь мобилизуемая писателем, буквально каждое слово резонирует с полузабытыми ассоциациями. Это и есть философский метод макэлроевского безумия. Там, где постмодернистский «черный юмор» постулирует нестабильность изложения как посягательство на истину, экстатический бренд Макэлроя призывает нас к восприятию истины как суммы всех способов ее изложения.
В погоне за своим плюралистическим видением, Джозеф раздвигает границы языка. Его интерлюдии, чем-то напоминающие рассказы, демонстрируют способность к строгому, простому письму, но, между прочим, Women and Men распухли из-за содержания в них длиннейших и затейливейших сентенций, когда-либо написанных на английском языке. Их манера основана непосредственно на матрице нью-йоркского диалекта и специализированных дискурсов (наука, мифология, теология, метеорология, экономика). Все же, известная длина и макэлроевские «синтаксические матрешки» требуют от читателя бдительности и терпения.
Тем не менее, если вы сможете втянуться - Women and Men обернутся для вас авангардистской вариацией на тему того, что старый добрый Генри Джеймс окрестил «осязаемой близостью». Позади, между и внутри композиционно-убийственных дебрей информации, роман транслирует неописуемо плотную фактуру жизни в Нью-Йорке конца 70-х: как научить своего ребенка кататься на велосипеде в парке, каково бродить вокруг Мэдисон Сквэр Гарден после наступления темноты и все в таком духе. Более того, Макэлрой описывает невероятные жизни Джима и Грэйс с большим остроумием, настойчивостью и изрядной долей человеческого тепла. Именно эти старомодные добродетели заставили меня прочесть роман до конца.
А критики их не заметили в 1987 году, и реакция на роман будто бы разоблачила скрытую враждебность по отношению к бескомпромиссной эстетике Макэлроя. Реакция на его следующую книгу, куда более утонченную The Letter Left to Me , немногим отличалась от той, которой были встречены головокружительные романы 70-х. Впоследствии Макэлрой расстался со своим давнишним издателем Альфредом А. Кнопфом. В 2003 Actress in the House обретет свой издательский дом в лице Нью-Йоркского Overlook Press . С тех пор это издательство выпустило в мягких обложках переиздание двух первых романов Макэлроя, но Women and Men по-прежнему ожидают своего часа. Европейцы, очевидно, высоко оценивают этот роман, а в Штатах работа Джозефа перекликается с пассажем о творчестве композитора в романе The Recognitions Уильяма Гэддиса: «О нем все еще говорят с большим уважением, как во времена известности, хотя и редко играют».
Быть может, вполне уместно, что Women and Men как апофеоз определенной ниши американской словесности вызвал, а может и развил, амбивалентные чувства среди читателей по поводу постмодернистского мега-романа в целом. В самом деле, ваше отношение к его современникам вполне может быть хорошим индикатором того, как вы отнесетесь к самому Макэлрою. Для читателя, находящего Gravity’s Rainbow тяжеловесным романом, Women and Men покажутся неоправданной книгой.
Как бы там ни было, мне кажется, что подобное отстранение происходит из ошибочной идеи, которая заключается в том, что наша работа состоит в декодировании произведения, когда от нас требуется лишь полное погружение в него. Эта идея провозглашалась постмодернистами настолько же истово, как и их предшественниками-модернистами. Таким образом, Макэлрой может стать жертвой постмодернизма в той же степени, в какой он является его мастером. Однако, не похоже, чтобы это его сильно волновало. Он по-прежнему живет в Нью-Йорке и пишет: то о Стиве Эриксоне для Believer , то об 11 сентября для Electronic Book Review , то о Гао Синцзяне в The Nation . Может быть, он и потерянный постмодернист, но он находится прямо у нас под носом, ждет, пока его найдут.
Далеко не все писатели согласны с утверждением «Краткость – сестра таланта». К тому же многие из нас предпочитают, чтобы любимая книга или рассказ никогда не заканчивались. Ниже представлен список десяти самых длинных романов в мире, составленный исходя из оценённого количества слов.
«Сирония, Техас» (Sironia, Texas) - роман американского автора Мэдисона Купера, который описывает жизнь в вымышленном городе Сирония, штат Техас, в начале XX века. Книга содержит около 840 000 слов и более 1700 страниц, что делает её одним из самых длинных романов на английском языке. Была написана в течение 11 лет и опубликована в 1952 году. Удостоена литературной премии Хоутона Миффлина.

«Женщины и мужчины» (Women and Men) - роман Джозефа МакЭлроя изданный в 1987 году. Насчитывает 1 192 страницы и 850 000 слов . Считается самым трудночитаемым романом в мире.

«Бедняга моя страна» (Poor Fellow My Country) - роман австралийского писателя Ксавье Герберта получивший за него Премию Майлза Франклина. Был опубликован в 1975 году. Состоит из 1 463 страниц и 852 000 слов . Является самой длинной австралийской художественной литературой, когда-либо написанной. Тема романа включает в себя вопросы о правах аборигенов, а также описывает жизнь и проблемы Северной Австралии.

«Сын Понни» (Ponniyin Selvan) - тамильский исторический роман, написанный Калки Кришнамурти. Является одним из величайших произведений тамильской литературы. Повествует историю принца Арулможивармана (позже коронованного как Раджараджа Чола I), одного из выдающихся царей династии Чола правившего в X–XI веках. Роман был опубликован в 1950-х годах. Насчитывает 2 400 страниц и 900 000 слов .

«Келидар» (Kelidar) - монументальный роман Махмуда Доулатабади. Один из самых известных персидских романов и, безусловно, один из лучших. Насчитывает 2 836 страниц в пяти томах, состоит из десяти книг и 950 000 слов . Рассказывает о жизни курдской семьи из иранской деревни в провинции Хорасан между 1946–1949 годами, которая сталкивается с враждебностью соседей, несмотря на сходство их культур.

«Кларисса, или История молодой леди» (Clarissa, or, the History of a Young Lady) - эпистолярный роман английского писателя Сэмюэля Ричардсона, написанный в 1748 году. Состоит из 1 534 страниц и 984 870 слов . Входит в список 100 лучших романов всех времён. В нём рассказывается трагическая история героини, чьё стремление к добродетели постоянно срывается её семьёй.

«Сон Цеттеля» (Zettels Traum) - работа западногерманского писателя Арно Шмидта, опубликованная в 1970 году. Насчитывает 1 536 страниц и 1 100 000 слов . История здесь рассказана в виде заметок, коллажей и машинописных страниц.

Venmurasu - тамильский роман писателя Джеямохана. Это самая амбициозная работа автора, которую он начал в январе 2014 года, а позже объявил, что будет писать её каждый день в течение десяти лет. Ожидается, что общий объем романа составит 25 000 страниц. По состоянию на декабрь 2017 года 15 книг были опубликованы в интернете и напечатаны. Пока они насчитывают 11 159 страниц и 1 556 028 слов .

«В поисках утраченного времени» (À la recherche du temps perdu) - французский роман-эпопея, главное произведение писателя Марселя Пруста, созданное им в течение 1908 / 1909–1922 годов и опубликованное в семи частях с 1913 по 1927 год. Рассказывает о воспоминаниях детства и подростковых переживаниях автора в аристократической Франции конца XIX - начала XX века, рассматривает пустую трату времени и отсутствие смысла в мире. Роман состоит из 3 031 страницы и 1 267 069 слов .

«Артамен, или Великий Кир» (Artamène ou le Grand Cyrus) - французский роман-река, первоначально опубликованный в десяти томах в XVII веке Мадлен де Скудири и её братом Жоржем де Скудери. В общей сложности в оригинальном издании насчитывает 13 095 страниц и 1 954 300 слов . Считается самым длинным романом в истории мировой литературы. По типу относится к светским романам (с ключом), где современные люди и события тонко замаскированы под классические персонажи из римской, греческой или персидской мифологии.
Поделится в соц. сетях
12:00 / 26.01.2018
Есть такой парадокс: чтобы стать частью канона, его сначала нужно хорошенько пнуть, расшатать или нацарапать на нем что-нибудь неприличное. Писатели, которые сегодня смотрят на нас с портретов в кабинетах литературы, попали на эти портреты вовсе не потому, что «сохраняли традиции», как раз наоборот — они их нарушали.
«Герой нашего времени» и «Капитанская дочка» сегодня считаются классикой, но на момент публикации это были самые новаторские тексты своего времени.
Поэтому, мне кажется, лучший способ заглянуть в будущее литературы — это найти и изучить самые необычные романы последних лет.
Например — эти:
Персиваль Эверетт. Глиф (1999, перевод Марии Семенкович)
Ральф — гениальный младенец. Ему 10 месяцев, он еще не умеет ходить, затоумеет читать и уже критикует работы Жака Деррида и Людвига Витгенштейна. Он не разговаривает, но лишь потому, что ему не нравятся ограничения языка, молчание — его сознательный выбор: «Я был ребенок набитый словами, но не издавал ни звука».
Роман Персиваля Эверетта — это мир глазами человека, который проскочил стадию накопления опыта и знает о мире все, но лишь теоретически — из книг. «Я не знал вкус флана, но знал рецепт». Принципы функционирования языка интересуют Ральфа гораздо больше, чем окружающий мир, — проблема в том, что у окружающего мира свои планы, поэтому Ральфа то и дело похищают; одни, чтобы ставить на нем эксперименты, другие — чтобы изгнать из него дьявола.
При этом малыш Ральф еще и успевает иронизировать над тем, как мы, читатели, воспринимаем текст, и объясняет, почему мы склонны делать из умолчаний неверные выводы:
«Вы до сих пор предполагали, что я белый? При чтении я обнаружил: если персонаж черный, он обязан поправлять свою африканскую прическу, употреблять на улице характерные этнически идентифицируемые идиомы, жить в определенной части города или слышать в свой адрес «ниггер». Белые персонажи — я предполагал, что они белые (часто из-за того, как они отзывались о других), — похоже, не нуждались в таком представлении или, возможно, узаконении, чтобы существовать на странице. Но ты, дорогой читатель, разделяешь ли ты мою пигментацию и культурные корни или нет, несомненно, считал меня белым».
Мэтью Макинтош. theMystery.doc (2017, не переведен)

«Дом Листьев» Марка Z. Данилевского был опубликован в 2000-м году, и с тех пор заигрывание с версткой, цветом и шрифтами уже вряд ли можно считать новаторством. Но вышедший в 2017-м «theMystery.doc» Мэтью Макинтоша — это, пожалуй, первый с 2000 года роман, в котором текстовые инсталляции не выглядят как попытка пристроиться в кильватер успеха «Дома Листьев».
Сюжетов в «theMystery.doc» целая пачка, но есть и основной: главный герой просыпается в постели с неизвестной женщиной и пытается вспомнить свою жизнь.
В пересказе звучит не очень впечатляюще, — опять история про амнезию! — но есть нюансы: в книге 1660-страниц, на протяжении которых автор привлекает все возможные доступные на бумаге медиа-инструменты: фото-коллажи, переписку с чат-ботом, электронные письма, поисковые запросы в браузере, скриншоты из фильмов и случайные текстовые файлы из своего ноутбука. «theMystery.doc» — роман о контексте; или, точнее, о попытке восстановить контекст в мире интернета, где информации так много, что можно заработать передозировку. Не говоря уже о нескольких безумных поворотах внутри истории, напоминающих фильм «Memento» Кристофера Нолана.

Дэвид Марксон. Этонероман (ThisIsNotaNovel, 2001, не переведен)

Совсем недавно по-русски вышел самый известный роман Дэвида Марксона «Любовница Витгенштейна», а значит есть надежда, что и остальные его книги тоже переведут. Вообще, он большой мастер придумывать названия — взять хотя бы последние три его текста: «Это не роман» (ThisIsNotaNovel, 2001), «Исчезающая точка» (VanishingPoint, 2004) и «Последний роман» (TheLastNovel, 2007).
Все три — романы-коллажи, не столько написанные, сколько составленные, сложенные Марксоном из сотен карточек, на которых он любил фиксировать свои мысли — вариации на тему отношений автора и текста. Сюжет такой: автор пытается сочинить роман о том, как он пытается сочинить роман, при этом все время отвлекается, рассматривает свою печатную машинку, листает справочник с адресами, пытается вспомнить, где находится ближайший пункт по ремонту печатных машинок, смотрит в окно, думает о других писателях и вспоминает, как и отчего они умирали, затем он и сам умирает (или не умирает?) от инфаркта за несколько страниц до конца книги, потом в текст проникают реплики его детей, что-то вроде: «Пап, пожалуйста, перестань пялиться в стену, ты меня пугаешь, поговори со мной». Фактически Марксон пишет один большой роман-триптих о творческих муках, или скорее о прокрастинации, что уже само по себе смешно, потому что каждый, кто хоть раз пытался писать, сразу узнает себя в этом хаосе из цитат и случайных мыслей. Но Марксон идет дальше — текст, который начинается как мета-шутка о рассеянном внимании автора, в какой-то момент превращается в настоящую медитацию на тему смерти и страха перед белым листом. А «Это не роман» и вовсе начинается со слов «Писатель уже почти готов бросить писать. Писатель до смерти устал рассказывать истории».
Джозеф Макэлрой. Плюс (1977, выйдет этой осенью, перевел Максим Нестелеев и Андрей Мирошниченко)

«Плюс» — роман о научном эксперименте. Главный герой — мозг, отделенный от тела и запущенный на орбиту внутри капсулы. Макэлрой воспроизводит процесс рождения сознания с нуля; сначала мозг просто отправляет данные в ЦУП, затем начинает задумываться о смысле слов и постепенно вспоминает прошлую жизнь — когда еще был человеком, до того, как согласился стать частью эксперимента.
И хотя текст местами напоминает стихотворение в прозе и целиком построен на ассоциациях, на созвучиях слов, и на словах внутри слов, сам Макэлрой не любит, когда «Плюс» называют «романом о языке». «Роман о языке», говорит он, это просто удобный ярлык, который вешают на любую необычную идею. И в чем-то он прав: «Плюс» — скорее роман о словах, чем о языке; это попытка описать работу сознания, которое, не имея вообще никаких органов чувств, познает мир через слова и через обрывочные воспоминания о своем прошлом теле. Такое вот лингвистическое блуждание во тьме воображения.
Переводчик «Плюса» Максим Нестелеев пишет о языке романа так: «Макэлрой реализует метафоры, которые находит в самих словах. Например, в слове remembering уже есть эта идея восстановления/возобновления членов тела (re-member-ing) как процесс, которому предстоял процесс dis-memberment тела инженера <…> Рост как метафора, кроме названия романа, заявлен прежде всего в словах grеen (141 упоминание) и more (335). Рост физический и духовный + приращивание, связанное с движением от простоты к сложности проявляется прежде всего в языке, от примитивных, неполных и стилистически несовершенных фраз в начале текста до запутанных синтаксических конструкций в конце».
Александр Секацкий. Два ларца, бирюзовый и нефритовый (2008)

Александр Куприянович Секацкий в России известен скорее как философ, хотя его художественный текст «Два ларца, бирюзовый и нефритовый» в 2008-м году был удостоен премии Андрея Белого.
Это одна из самых странных и замысловатых книг из всех, что я читал — хотя бы потому, что сам Секацкий уже в предисловии начинает путать следы, утверждая, что он не автор, а лишь переводчик «Двух ларцов...» с китайского на русский.
По форме «Ларцы» — это сборник шпаргалок для китайских чиновников. 44 истории, стилизованные под задачи, каждая задача — в некотором роде притча, где главный герой стоит перед моральной дилеммой. Столкновение этики с бюрократией. В задаче есть условия, четко поставленный вопрос и варианты ответов, которые, впрочем, иногда выглядят как отдельные истории, и часто не отвечают на заданный вопрос, а увиливают от него или пытаются его комментировать или критиковать с позиции той или иной философской школы.
Джонатан Сафран Фоер. Дерево кодов (2010, не переведена)

В 2010 году у Джонатана Сафрана Фоера вышла книга «Дерево кодов», но это не роман в классическом смысле слова. Сам Фоер писал о замысле так: «Чтобы создать “Дерево кодов” я распечатал несколько копий “Улицы крокодилов” Бруно Шульца и попытался найти историю внутри его истории. Идея была проста: вырезать из книги слова, множество слов, целые блоки слов, чтобы из оставшихся слов создать другую, новую историю».
Создать книгу с дырявыми страницами — задача настолько технически сложная, что Фоер так и не смог найти издателя в США. «Дерево кодов» согласилось напечатать только одно издательство из Бельгии — «DieKeure».
Joseph McElroy
I always think of the child as a girl. What if it’s a boy?
Oh, it couldn’t be. .
Martha Martin, Revelations, Diaries of Women
Nothing new here, except my marrying, which to me, is matter of profound wonder.
A. Lincoln, Letter to a fellow lawyer, November 9, 1842
My thanks to Alice Quinn, my editor at Knopf, for hours, weeks, and months she spent on this book. Thanks also to Margaret Cheney, the copy editor, who has followed every parenthesis and sentence with the most exacting attention. And thanks to my friend Robert Walsh, a young writer and editor of great gifts, who has read the book several times and encouraged me at every turn to believe in the American heart of its common sense and heartfelt and humorous extremities. And thanks to Chris Carroll for help when I needed it.
My thanks also to the Guggenheim Foundation and the National Endowment for the Arts for grants, and to Queens College of The City University of New York for paid time-off from teaching, and to the University of New Mexico for the D. H. Lawrence Fellowship in San Cristobal, New Mexico.
division of labor unknown
After all she was not so sure what had happened, or when it had started. Which was probably not a correct state to be in, because what had happened made the biggest difference in her life so far. Hours of life that worked her back full to breaking of pain and drained it of its work when the back of her child’s head with a slick of dark hair and its rounded shoulders gave her that last extra push to free its arms still held inside her. She would tell her husband later - she knew she would - and she did tell him. She told her husband and he told others for weeks afterward. Also he had his own side to tell. She loved his excitement.
Pain all in her back worked free of her at the end, dropping away into a void below, and it could almost not be recalled. This pain had been new and undreamt of. As new as the height of the young obstetrician whom she had never seen until she arrived at the hospital, he stood in surgical green against the ceiling above her head, then at her feet, at a distance down there between the stirrups tilting his head this way and that way between her thighs, and the green cap on his head was as far away as the bright, fairly unmetallic room she was giving birth to her child in, and the young obstetrician’s words were the talk that went almost and sharply along with the pain her husband Shay - she was thinking of him as Shay - also in surgical green, could not draw off into the ten-buck pocket watch he’d timed her with (where was it? in a pocket? mislaid? she didn’t care where it was). Her husband Shay’s chin hung close to her; I will always be here, his chin might have said, and his hand out of sight somewhere gripped hers, his hand might have been invisible for all she knew; but then he had to see for himself what was going on at the other end and he moved down to the foot of the delivery table and he peered over the doctor’s shoulder as if they were both in it together, and then Shay half looked up from that end against his better judgment she was sure and frowned at her but with love smiled the old smile. He needed a shave, his tan had grown seedy. The doctor stood up between her thighs and said they were getting there.
She was just with it enough to be embarrassed and so she didn’t say she didn’t want Shay down there looking. He was already there. Her baby had changed. It had felt older last week, older than their marriage. One night he had told her with his tongue just what he would do to her when the head began to show, and she didn’t think he meant it but she didn’t tell him. Now he heard her pain. He couldn’t see it. She could see it on the blank ceiling, oh God oh blank, and it was coming to birth, that pain, and would always be there like a steady supply of marrow-to-burn mashed out of her from her skull downward.
The men there between her thighs said, "Hey" and "Oh" at the same time (doctor, husband, respectively). They spoke at once, like song.
What’s she look like down there? Oh God oh God. What’s she sucking spitting look like down sucking splitting there? Look like? Well, she never really had known, so why should she know now? A saddle of well-worked mutton? A new dimension of Her. Later she was encouraged to recall it all. As if she did.
Afterward she did recall a thought about being an invalid that had escaped her during the pain, the labor, and came back at a later moment of the pain when she was not really trying very hard to recall another, different thing that she couldn’t at that moment even refer to (so how did she know there was anything to recall?), it suddenly quite naturally during the pain took the place of the invalid insight and it had to do with Shay moving the way he moved when they were at last in the delivery room and he’d been at her side holding her hand. He moved then slowly away from her head to the foot of the delivery table to look at the very top of the baby’s head (girl head or boy head). But also at the part of her he said opened like an animal looking to be a flower. But now with the baby coming down, she was pushing against what Shay would be seeing, whatever that was, and the thing that had come to her had to do with his moving from one end of her to the other, from the upper part where her eyes were, downward - the way he did it, walked to the foot of the table, and the way this turned her into something but she lost it - had it, lost it, a wrinkle in her mind somewhere stirred like the start of a laugh- and later she found herself recalling this thing about being an invalid: that, here she was perfectly healthy, never more, and healthier than Shay with his sinus; and in order to have this baby she had to become an invalid, and she got the picture again of her recurrent dream she’d never told Shay, of gazing out the endless window of her lab and seeing a man led to execution who she learned had been in the hospital getting better for several weeks until he was able to have the punishment executed on him which then she saw was a thousand and one strokes; then he was to crawl back to the infirmary he had just walked out of: but she saw that her thinking was incorrect and she was not an invalid at all, she was using herself, that was what she was doing, being fruitful. Her husband had hated his first name when he was eleven and had been Dave for a while and then, of all things, Shay, he hadn’t gotten over it, she called him Shay sometimes, hadn’t gotten over what? it sounded like a movie actor. What is the fruit of a cross between an animal and a flower?
The men looking her over, head to toe, were glad to be there and so was she to have them, and so was the nurse and so was she to have the nurse and so were they to have the nurse, and so were they glad to have her and her pain and the baby that she could remember looking ahead to: the truth was not head to toe, it was the men looking when they couldn’t see in, until they saw what was coming out to meet them, which was nice, wasn’t it.
How did you feel?
It was (she sips the last of her daiquiri which now is not so chilled) the most beautiful experience of my life. No, it was rough, it was painful, but I couldn’t remember all the pain. It was an experience I wouldn’t have missed.
She was glad it was ending, glad Shay wanted to be there with her, she was alone with her pain whittling at her, but no, we are not alone.
Shay and the chin he was hitched to moved away but down and near the foot of the delivery table in the bright delivery room, and he moved politely as if he didn’t want to notice himself moving. She found on his face a pursed-lip fixity sharing her pain, she knew he shared it. It was love. She was glad, so glad. She couldn’t have done it without him, later that was what she was telling everyone again. Having apparently already told them. For how else could there be an again? She heard herself.
And recalled the word for what Shay had made her into when he respectfully moved with a Sunday museum-goer’s slowness, from her higher to her lower, from her eyes and dry mouth that he’d kissed and that hadn’t changed, to the action down there - she thought of him as Shay during the labor - and he mustn’t look back at her, this was what she felt, or felt he felt, as if he could share her labor only by not looking back at her. Well, it wasn’t as if she couldn’t have had a mirror to follow the action. But he, who had been impatient for the baby to come and who had said the time had never gone faster, had looked along her length so that by his slowness she had become a model.
Of what? A model of a woman on a scale not to be sniffed at.
Still, a model. A model woman? In the mouths of others. Scientist, lover, mother of a fetus nearing term, nutritionist at the bar of the breakfast nook, creator soft and trim who’d give you a hand and a thigh, demonstrate relative acceleration, share a birth with you, be tracked by your pocket clock through space to the next contraction (breathing quick and regular, hhh - hhh - hhh - hhh, as she and Shay had been shown at the natural childbirth sessions), while she’d often said (knowing she will often later say) that she must have (later had had ...
Литературный интернет-журнал The Millions составил список из 10 самых трудночитаемых книг в истории. Cоставители рейтинга не поскупились на такие эпитеты как «10 литературных Эверестов, покорив которые, вы тут же почувствуете свое интеллектуальное превосходство над среднестатистическим homo sapiens».
К чтению книг из данного списка составители рекомендуют подходить с осторожностью, напоминая смелому читателю о том, что восприятие этих произведений может оказаться достаточно затруднительным. Сложности у современного читателя может вызвать чрезмерный объем некоторых из этих произведений, необычный синтаксис и оригинальная структура текста. Также в числе подстерегающих читателя трудностей был назван слишком сложный стиль написания, экспериментальная работа авторов с языком и просто абстрактность текста.
Составленный сайтом ТОП-10 самых сложных книг выглядит следующим образом:
1. «Найтвуд» Джуна Барнс;
2. «Сказка бочки» Джонатан Свифт;
3. «Феноменология духа» Георг Гегель;
4. «На маяк» Вирджиния Вулф;
5. «Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов» Сэмюэл Ричардсон
6. «Поминки по Финнегану» Джеймс Джойс
7. «Бытие и время» Мартин Хайдеггер
8. «Становление американцев» Гертруда Стайн
9. «Королева фей» Эдмунд Спенсер
10. «Женщины и мужчины» Джозеф Макэлрой.
Однако нашего читателя (да и переводчиков) всеми этими страшилками не напугать. Большая часть этих книг доступна нашему читателю. Не переведены пока «Найтвуд» Джуны Барнс, «Становление американцев» Гертруды Стайн, да постмодернист Джозем Макэлрой с его «Женщинами и мужчинами».
Частично переведены «Королева фей» Эдмунда Спенсера и «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса - вероятно, самая сложная для перевода из всех представленных в списке книг.
Сам же список вероятно призван заинтересовать читателя методом «от противного». Если данная книга сложна - отчего бы и не осилить? Хотя бы для самого себя. Да и привычные рейтинги уровня «что прочесть, чтобы выглядеть начитанным» уже набили оскомину. Список конечно далеко неполон, да и составлялся для англоязычного читателя. Вероятно, вскорости следует ждать и других списков самых сложных для восприятия книг. Прежде всего - русских…
См. также:
* 39 книг, которые объяснили Россию
* Сто книг для тульских школьников
*