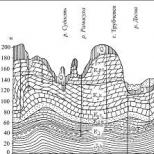Исповедь офицерской жены. Брошенные женщины. Истории жен советских командиров, которых оставили вермахту С женами офицеров рассказы
Так уж повелось, что в карьере флотского лейтенанта жены играли, играют и будут играть существенную роль. Тамара Адрианова знала это не понаслышке, потому что была дочерью капитана 1 ранга Адрианова – моряка в третьем поколении. Ее "прапрапрадед" начинал строить корабли на верфях самого Петра.Тамара пошла и статью и лицом, а главное характером в свою матушку, которая и по жизни была командиршей тишайшему капитану 1 ранга Адрианову. Мужу она карьеру сделала по меркам советского времени головокружительную.
Тамара родилась уже в Ленинграде, куда чета Адриановых перебралась из самого страшного места на Северном флоте – "Гремихи" уже через два года службы. Далее Ленинградская военно-морская база и скорые командирские погоны Ижорского арсенала, а затем и теплое место на кафедре вооружения военно-морского училища им Фрунзе. Приемы в карьерном росте супруга совершенствовались постоянно: от легкого флирта с начальством при проведении праздничного застолья, постоянного заседания в женсоветах и до написания докладов о преимуществах советского строя, на которых обязательно присутствовала высшее политическое руководство соединения, базы или училища.
Дочь капитана 1 ранга Адрианова зацепила будущего мужа на танцах в военно-морском училище, где ее отец к 50 годам заведовал кафедрой. Курсанта звали Слава Сухобреев с "совершенно дурацкой", по мнению будущей тещи, для морского офицера фамилией. В ЗАГСе курсант четвертого курса Сухобреев уже стал Адриановым. Через год, как и положено, с появлением на свет Артемки молодая семья разрослась до обычной флотской семьи в составе трех человек. Необычным был только факт, что прибыло семейство к первому месту службы в составе 4-х человек: двухлетним Артемкой, красавицей Тамарой с самым обыкновенным лейтенантом и его необыкновенной тещей.
Жена "товарища первого ранга" Адрианова докучала лейтенанта до тех пор, пока он не отдал распоряжение начальнику КЭЧ выделить Адрианову однокомнатную квартиру. На что начальник КЭЧ – капитан Дзозиков тихо поинтересовался у начальника медицинской части о состоянии здоровья командира базы. Тот ему ответил примерно в таком духе, что молодняк совсем "обурел" и служить приезжают уже с тещами, а отсюда и возможные расстройства здоровья у самого капитана 1 ранга Дуба – командира базы. Адриановская теща была клоном жены Дуба, который благоразумно решил уступить в малом, чтобы не проиграть в большом. Командир базы только что закончил академию тыла, и стратегию и оперативное искусство, как науку, еще не успел забыть.
Получив полный инструктаж от матери о точках карьерного роста лейтенанта Адрианова, Тамара осталась с Артемкой вдвоем ждать Славу, который ушел в море уже на следующий день после появления мамаши в кабинете Дуба. Остальные молодые лейтенанты: Понамарь, Фима и Старов, которым дали на холостяцкое обустройство целых две недели "радовались за друга" под довольно приличное пиво, полагая, что спешный выход в море "зеленного по меркам службы лейтенанта" и знакомство его тещи с командованием – явления одного порядка. Друзья забегали иногда к Тамаре, помогая обустраивать ее счастье в отдельном семейном гнездышке, которое "по понятиям и флотской традиции" полагалось лейтенантам, с той лишь разницей, что к тому времени они становились капитан-лейтенантами. Молодые семьи жили по две, а то и по три семьи в одной квартире года 3-4. Все зависило от того, как пара переносит "тяготы и лешения воинской жизни".
Возвращение Славы Адрианова совпадало с его днем рождения, поэтому Тамара, следуя наставлениям мамы о тактике карьерного роста, решила обставить все с размахом, пригласив в гости капитана 1 ранга Дуба с женой и начальника политотдела с супругой, намекнув, что возможно к этому событию подъедет из Питера и мама. Дуб, узнав об этом, вызвал в кабинет "начмеда" и после двухчасового совещания, согласившись доводами доктора, запил в растерянности таблетку от давления шилом (чистый спирт – фл. слэнг) из графина, который держал в командирском сейфе.
Друзьям Славы пришлось не только мотаться в город за продуктами, но и вывернуть карманы на обустройство грандиозного стола, отдав последнее из причитавшихся подъемных. Стол получился царским, и мог украсить прием Главкома ВМФ СССР.
Наконец Слава вернулся "с морей" с опозданием на свой день рождения на трое суток, но это уже не имело значения для утвержденного по телефону великой тещей плана начала карьеры. Сама мамаша Андрианова к тихой радости Вячеслава приехать не смогла, но хитрая Тамара не сообщила об этом супруге командира базы, и потому Петр Андреевич Дуб и его жена – директор школы военного городка прибыли, как и полагается командирской чете, в установленное регламентом время.
Неожиданный факт присутствия самого командира базы на дне рождения молодого лейтенанта породил множество слухов: от родственных связей семьи Адриановых с одним из членов ЦК КПСС, до пикантных подробностей шалостей командующего флота в его лейтенантскую пору в Гремихе, а отсюда и появление на свет незаконнорожденной красавицы Тамары.
Фрида Романовна была не только руководителем школы – центром культуры поселка, но и литератором по призванию. Для нее кроме дома и школы, поэтические вечера в Доме офицеров являлись необходимым атрибутом власти, где она могла заткнуть за пояс "неуч-выскочку" – первую леди соединения, саму жену адмирала. Любое застолье для Фриды превращалось в очередной творческий замысел, поэтому молодым лейтенантам пришлось учить стихи и для Адриановского дня рождения в соответствии с монтажом и литературной обработкой самой Фриды. Репетиции она любила проводить с молодыми лейтенантами по выходным, когда супруг уезжал на охоту или рыбалку. Поговаривали, что она допускала и "маленькие шалости". Но на то и закрытый гарнизон, чтобы давать повод посудачить, пусть ради скуки. Флот силен традициями, поэтому, почему бы и нет?!
Как и предполагалось, новации регламента в посещении "звездной семьи Адриановых" были не совсем удачными. Молодая часть офицерского корпуса была на Славкиных именинах слишком зажатой высоким присутствием, а само "высокое присутствие", понимающее идиотизм положения, помалкивало и налегало на "оливье", показывая, что рот занят и "оно" не намерено расточать любезности в адрес именинника. Не спасали и стихи Михаила Светлова.
Старов пытался после коротких тостов за сослуживца и его семью брать в руки гитару и рычать под Высоцкого, но, столкнувшись с неодобрительными взглядами Томы и Фриды, умолкал, так и не "Пропев до конца…" Продекламировав свою часть монтажа, Фима с Понамарем убегали на кухню, якобы покурить; но Старов, стиснутый с одной стороны упругим бедром жены начальника политотдела, а с другой – тощими мощами жены капитана Дзозикова тоскливо думал о "свободных друзьях", прикладывающимся "втихаря" в этот момент к горлышку стальной шильницы. Именинник сидел во главе стола и, не зная как себя вести, изображал внимание по поводу идиотских рассуждений быстро набравшегося доктора о возможности в скором будущем участия в "автономках" на подводных лодках и женщин. Так в мучениях для всех прошел час. К ужасу хозяйки, Фрида Романовна недовольная застольным поведением некоторых молодых девушек, налегающих на "сухое", что-то нашептывала на ухо довольному Дубу. Ситуация усугублялась треском отбойных молотков и тарахтением экскаватора во дворе.
Праздничное застолье спас Артемка. Он ввалился в комнату с улицы в вымазанном глиной комбинезоне. Чумазая мордашка корчила милые рожицы. На ходу, срывая шапку с голубым, как и у комбинезона, помпоном, сбросив мокрые и грязные варежки под ноги, он звонко закричал, не обращая никакого внимание на гостей: "Писить, мама. Быстро, писить!"
Начал разговаривать Артемка рано, и к своим 2,5 годам говорил настолько чисто с изумительной дикцией, что на обыденные расспросы: "Сколько Вашему" – вызывал у соседок удивление и определенное недоверие, тем более, что был не по годам здоровяк.
Перед тем, как быть выпровожденным на улицу, Артемка вбежал к гостям. Фрида Романовна, наклонившись мощным торсом к симпатичному мальчугану, засюкала и спросив традиционное: "Как нас зовут" – была в неописуемом восторге от услышанного на чистом русском, а не тарабарском младенческом: – Артем!
– Боже правый, каков адмирал! – стол дружно поддержал восторженную реплику жены командира базы. Сам командир перестал жевать и пересел на место Старова поближе к малышу.
– Офицером будешь, как отец?! – Старший Адрианов гордо созерцал за происходящим, спинным мозгом чувствуя, что пронесло и праздничный обед спасен.
– Нет, футболистом – хоккеистом! – Под восторженные аплодисменты закричал Артемка, принимая игру взрослых.
– Ты на улочку пошел?! – Вопрошала довольная Фрида. Кудрявая головенка с глазами – озерами качнулась в знак утверждения ласкового вопроса, и толстенький палец оказался в носу.
– Пальчики уби-раем, – Фрида Романовна запела, – И рассказыва-ем, что мы видели на детской площадке, – нежно отстраняя от красивого личика маленькую ручонку, как любят говорить женщины: "в перевязочках". Карапуз спрятал руку за спину и громко сказал:
– Видел, яму зарыли на Х….!
Стол замер и тихо выдохнул, правда пьяный доктор озвучил чуть громче три русские буквы, на которые матросы, работающие во дворе, зарыли яму. Гогот сотряс комнату. Артемка, подхваченный сильными руками восторженного капитана 1 ранга Дуба полетел под потолок. Фрида Романовна, вмиг ставшая похожей на Фаину Раневскую, весело смеялась, откинувшись на спинку дивана. Ошарашенная выходкой сына, Тамара бессильно опустилась на стул. Артемка бултыхался в руках Дуба, "где-то там наверху" и заливался весельем.
Старов понял, что малыш разрушил в секунду стену, разделяющую молодые семьи и семьи, состоявшиеся в этих суровых северных буднях. Он тот самый, ради которого нужны атомные подводные лодки и дальние походы! Артемка – центр вселенной, вокруг, которого крутится этот сложный мир взрослых с их извечными вопросами карьеры и сурового советского быта военных городков.
Отпущенный на свободу, Артем под первые в своей жизни овации, убежал на улицу к большим "пацанам" и одиноким пенсионерам – в едином порыве, радующимся, что яму во дворе успели зарыть, правильно ("до лютых северных морозов").
Глубоко за полночь неслась дружная песня "о таящем в тумане острове" над двором с облезлыми домами и летела до того самого острова Рыбачьего. Дуб на кухне с Понамарем и Славой "пригубляли" из фляжки со спиртом и дымили "Родопи". Тамара укладывала поудобнее подушку под голову доктора, крепко спящего под морские песни. Фима взасос целовался в ванной с женой капитана Дозикова, а сам капитан лазил на корточках с восторженным Артемкой и тарахтел, играя на паласе в экскаватор, который изображал лейтенант Старов.
Жизнь молодых лейтенантов, благодаря Артемке Адрианову, налаживалась. Старшего лейтенанта Слава получил в отличие от Понамаря, Старова и Фимы, на три дня раньше, но все равно праздновали через год все вместе в присутствии высокого начальства. Может быть потому, что чете Дубовых понравились молодые лейтенанты выпуска 1978 года, а может и потому что Славкина теща приехала к столь значимому для нее событию.
Поезд мелькнул светящимися окнами, протяжно свистнул на прощание, и мы остались одни с двумя чемоданами на тускло освещенном полустанке. Редкие фонари, одноэтажные деревянные и кирпичные домишки с наглухо закрытыми ставнями, вдалеке мерцали огоньки многоэтажек... После мерного стука вагонных колес на нас обрушилась тишина.
Начиналась наша самостоятельная жизнь.
Ночевать нам было негде. Сердобольная дежурная общежития предложила разместиться в «красном уголке», где уже обосновалась на ночлег молодая супружеская пара. Наверное, наша растерянность тронула сердце незнакомого лейтенанта, потому что поздно ночью, когда мы вчетвером собрались у длинного заседательского стола, покрытого красным штапелем, и прикидывали, как же нам быть, он негромко постучал и, извиняясь, вручил нам ключ от своей комнаты. Сам же с товарищем ушел спать в спортивный зал...
С моим мужем мы когда-то учились в одном классе, сидели за одной партой, списывали друг у друга, подсказывали на уроках. Как я не хотела, чтобы он стал военным!.. Золотая медаль, прекрасные знания по естественным наукам - перед ним были открыты двери всех вузов города, но семейная традиция (в его семье все мужчины были офицерами) перевесила чашу весов.
Когда мой научный руководитель в университете узнал, что я выхожу замуж за курсанта, он долго убеждал меня не делать глупостей. Училась я хорошо, получала повышенную стипендию, разрабатывала перспективную тему, которая могла бы стать основой для диссертации. Но молодости и любви нипочем советы старших, карьера и благополучие. Кроме того, в самоотречении я мнила себя княгиней Волконской, отправляющейся в ссылку за мужем...
Городок наш считался одним из лучших. Сюда возили представительные комиссии, улетавшие обратно на вертолетах, заполненных до отказа дефицитами из военторговских складов и скромными дарами здешней природы.
Все было в том благополучном, образцово-показательном гарнизоне и чистота, которую по утрам наводили солдаты вместо штатных дворников,и пруд, вырытый и вычищенный их же руками, и клумбы, обильно заливаемые водой, тогда как на верхние этажи домов она не доходила, и даже фонтан с каскадами. Не было только самой малости - жилья для офицеров.
Такие же, как и я, молоденькие девчонки каждый день осаждали инструктора коммунально-эксплуатационной части, ведавшую расселением, а та невозмутимо разводила руками: «Ждите»...
Но ждали не все. Кто оказался посообразительней и у кого водились деньги, скоро вселились в квартиры. Остальные, не пожелавшие преподносить дорогие подарки и давать взятки или просто не имевшие нужной суммы, еще долго жили в общежитии, перебираясь из комнаты в комнату.
Там, в коммуналке, впервые в жизни я увидела клопов. Соседство с кровососущими насекомыми сочеталось с плачем младенца за стенкой, грохотом топающих сапог по длинному коридору, воем сирены под утро, сзывающей офицеров на учебную тревогу, с голосом певца, доносившимся из чьего-то старенького магнитофона, или треньканьем расстроенной гитары.
Через год я уже не удивлялась, что кому-то в три часа ночи вдруг понадобилась соль или кусок хлеба, а то и просто захотелось излить душу.
У кого с жильем не было проблем, тому вряд ли понять всю глубину счастья обладания собственным углом. Одна моя знакомая, тоже жена офицера, помытарствовавшая по свету, пожившая на частных квартирах за сумасшедшую плату, как-то призналась мне: «Знаешь, когда получу свою квартиру, буду целовать и гладить ее стены...»
Из общежития мы уезжали едва ли не последними, за день до Нового года. И вместе с новыми соседями сожгли ненужный хлам, коробки и ящики. Мы молча смотрели, как языки пламени лижут сухой картон, выстреливая клопов, и нам казалось, что мы испепеляем в тлеющих головешках наше недавнее прошлое. Верилось, что этот очистительный огонь навсегда унесет в черноту ночи все наши огорчения и невзгоды.
А потом вернулись в свою пустую квартиру, где вместо лампочки безжизненно свисали два оголенных провода, и на расшатанных стульях с казенными номерами, заменявшими нам стол, при свечах встретили праздник.
Только три года спустя мы наконец получили ордер на отдельную квартиру.
После работы, наспех поев магазинных котлет, мы шли ремонтировать свое новое жилище. Радовались, как дети, каждому покрашенному окну, оклеенной обоями стенке. А в редких перерывах представляли, как здорово нам здесь будет жить. Никто не разбудит утром стуком каблуков, никто не встретит в дверях и не вручит своего двухмесячного малыша - посидеть. Вечером можно будет посмотреть самим, без соседей, взятый напрокат телевизор.
Не помню, когда у нас в доме появился первый добротно сколоченный ящик, но только потом они стали нашими постоянными спутниками. Деревянные и картонные, большие и маленькие, аккуратно складывались «на всякий случай».
Удивительное это состояние - временность. Трудно уловить, в какой момент оно становится господствующим в твоей судьбе, властно подчиняет тебя своим законам, предопределяет твои желания и поступки.
Я была абсолютно уверена, что перед моим красным дипломом, оптимизмом и энергией не устоять даже самому суровому администратору, и уж работу я себе найду без особых усилий. Не тут-то было! Поначалу все действительно шло чудесно (приятная улыбка, доброжелательный тон), но стоило мне сообщить, что я жена офицера... В первое время было даже любопытно наблюдать резкую перемену, происходившую с моими работодателями. Куда девались их административный восторг, приветливость, сочувствующие интонации! Ответ следовал сразу и в категоричной форме: вакансий нет и в ближайшее время не предвидится.
Я продолжала обивать пороги учреждений, пока инструктор по работе с семьями военнослужащих терпеливо не объяснила мне, что на каждое место в городке существует длинная и безнадежная очередь. И надо выкручиваться самой, если хочешь работать. Единственное, что она могла предложить мне в тот момент. - место администратора в гостинице. И все-таки мне повезло. Что-то тронуло сердце пожилого редактора местной газеты, и он принял меня корреспондентом с месячным испытательным сроком, застраховав себя таким образом от дальнейших обязательств.
С
этой довоенной фотографии на нас с вами смотрят заместитель командира 84-го стрелкового полка подполковник Алексей Яковлевич Грибакин (1895 г.р.), его жена Надежда Матвеевна (1898 г.р.) и их дочери Наталья и Ирина.
Войну они встретили в Бресте. Вот рассказ Надежды Грибакиной о начале войны.
Когда я его в первый раз читал, то не мог удержаться от слез.
Да и сейчас, перечитывая, не могу.
В ойна началась, мы спали. Муж очень быстро встал, начал одеваться. Он только сказал:
— Ну, войны дождались.
Начался обстрел артиллерийский и бомбежка. Мы жили в самой крепости. Муж оделся и ушел, направился в свою часть. Потом он уже пройти не мог. Вернулся к нам и сказал, чтобы мы сейчас шли в город.
Через 10-12 минут в дом попал осколок. Меня и маму ранило. В одном белье выбежали на улицу. Всюду летели осколки, пули. Встретили какого-то командира, который приказал нам спрятаться в дом. Мы спрятались в какие-то развалины, небольшой домик. Были там часа три. Бомбежка продолжалась, и артиллерийские снаряды летели. Когда мы бежали, в этот домик полз раненый. Мы пробежали мимо него. Когда остались в этом домике, старшая дочь говорит:
— Мама, я пойду его перевяжу.
Я ее не пускала, но они обе сорвались и побежали. У него был перелом ноги. Перевязать было нечем. Дочь говорит:
— Наберитесь сил и ползите в санчасть.
— Товарищи, помогите, здесь раненый.
На нас сразу наставили винтовки. Это уже были немцы. Мы так перепугались, потому что сами себя выдали и никак не ожидали, что через какие-нибудь два-три часа здесь будут немцы.
Через некоторое время появляется в окне винтовка, и осторожно выглядывает немец. Когда он увидел, что здесь женщины, дети, один старик был, он не обратил на нас внимания. Одна из женщин обратилась к нему по-немецки, чтобы пустил домой одеться. Он говорит:
— Сидите здесь. Скоро все затихнет, тогда пойдете домой. Спросил у нас, где дорога на шоссе. Мы ему показали.
Через некоторое время слышим русские голоса. Входит командир и спрашивает, были ли здесь немцы. Мы говорим, что были. Он не верит, спрашивает, в какую сторону пошли. Мы сказали. Их было четыре человека, один из них ранен. Наташа, старшая дочь, перевязала его. Он спрашивает:
— Как вы думаете, что нам делать? Защищать?
Я говорю:
— Что же 30 человек сделают, нужно пробраться, где наши.
Другой говорит:
— И погубим их. Мы начнем стрелять, немцы будут бить по нас.
Один из них садится в угол. Я долго буду помнить эту картину. Сидит, задумался, на глазах слезы и смотрит, смотрит. Я думала, что у него письмо. Смотрю — партийный билет в руках. Его товарищ говорит:
— Нужно уничтожить.
Они оттянули раковину от умывальника и глубоко засунули туда партийный билет. Второй разорвал билет и тоже засунул в раковину вниз. Третий, как видно, был беспартийный. Четвертый очень долго смотрел на билет, отвернулся, улыбнулся и даже поцеловал этот билет и тоже порвал.
Потом командир крикнул, чтобы уходили, вокруг залегли в кустах.
Опять появились немцы. Говорю им:
— Вы спрячьтесь.
Они спрашивают испуганно:
— Куда? — очень растерялись.
Я говорю:
— Откроем двери, и вы между ними станьте.
Вошли немцы. Вынули винтовки, высунули в окна, потом сами вошли и говорят нам:
— Выходите.
Мы вышли, раненого вынесли. Спрашивают:
— Еще кто есть?
Говорим, что никого нет. А те в углу. Я не знаю, что с этими четырьмя людьми было. Летят осколки, пули. Мы растерялись. Они на нас кричат. Повели через дорогу. Заставляют нести раненого офицера. Остальных женщин поставили гуськом, чтобы закрывать их. Женщина, которая говорила по-немецки, говорит:
— Мы боимся, там стреляют.
Они отвечают:
— Ваши по вас не будут стрелять.
Несли этого офицера. Отнесли этого офицера. Потом нас повели мимо нашего дома. Эта женщина просит отпустить одеться, распахивает мое пальто и показывает, что я голая. Он качает головой, говорит, что — нет. Подвел к нашему дому с противоположной стороны, поставил. Я выбежала в рубашке. Наташа схватила мое пальто и понесла за мной. Я закуталась в одеяло. Когда нас поставили у стенки, я чувствую, как это одеяло тянет меня вниз. Не могу стоять. Опускаюсь на колени. Смотрю вперед, а на нас уже винтовки навели, бежит взвод солдат. Тут я поняла, что нас поставили расстреливать. Я быстро поднялась, думаю, что меня не убьют, и я увижу, как моих девочек расстреливают. Никакого страха не было. Вдруг бежит с горы какой-то офицер, что-то говорит солдатам, и они опускают винтовки. Потом я уже узнала, что расстреливали до 12 часов, а потом был приказ не расстреливать. Нас забрали без каких-нибудь трех минут 12.
Нас опять куда-то повели. Собралось женщин 600. Привели к большому дому, положили на землю, приказали лечь. Пальба невероятная, все летит в воздух. Напротив нас дом горит.
Так мы лежали до вечера. Среди нас было очень много раненых. Наташа работала, как настоящий врач, перевязки делала. Одному она сделала с сестрой операцию простым ножом, вынула пулю.
К вечеру как-то немного стрельба затихла. Я говорю:
— Пойдемте в дом.
К вечеру наша охрана взяла мужчин, которые могут ходить, заставили их везти пушки и куда-то увели. С нами остались только тяжелораненые мужчины. К вечеру говорю:
— Войдемте в дом, там мы будем спокойны хотя [бы] от осколков, которые летят и на наших глазах людей ранят.
Некоторые говорят, что дом может обрушиться. Я говорю:
— Как хотите, а я пойду.
Со мной была еще одна женщина с грудным ребенком и полька, которая говорила по-немецки. Муж ее дворником в крепости служил.
Понемногу затихло. Начали бегать по домам, искать, кто одеться, кто покушать. Я говорю:
— Берите все, что есть белого для перевязки.
Натащили полотенец, простынь. Тут же начали делать перевязки.
На второй этаж все боятся идти. Все хотят пить. Воды достали, дали по глоточку только раненым и детям. Ночью опять бомбежка началась. Я стояла, прислонившись к стене громадного трехэтажного дома, и чувствовала, как стены буквально трясутся.
В этом доме мы просидели трое суток. Дети голодные, плачут, крики. На четвертые сутки стало тише, но слышим все время голоса. Женщины кричат, начинают спорить, ссорятся из-за мест: я здесь сидела, ты здесь села. Мне пришлось с ними много говорить, охрипла даже. Говорю:
— Тише, тише, над нами смерть, а вы спорите из-за какого-то места.
Потом женщины уже осмелели, увидели через дорогу колодец, начали туда бегать, носить воду, раненым давать, детям и по маленькому глоточку другим. На четвертые сутки появляется немец и по-русски говорит:
— Выходите.
Выходим. Ведут. Прошли крепость. Очень далеко нас куда-то вели. Привели к громадному рву и говорят, чтобы мы спрятались туда. Мать у меня старая, на руках ее тащили. Сами еле идем. Немного стало успокаиваться вообще, и не было такой бомбежки. Подняли головы вверх, там пулемет наставлен. Некоторые были с вещами, вещи бросили. Уже совсем простились с жизнью. Потом спускается какой-то офицер и два солдата, ведут мужчин отдельно, нас отдельно. Мужчин было очень много, военные. Их куда-то отвели уже далеко. Мы их не слышим. Потом командуют нам выходить наверх. С нами была сестра, раненная в живот. Сначала она крепилась. У нее был чемодан. Она с ним выбежала, часть свою не могла найти и осталась с нами. Мы ее никогда не знали. Она говорит Наташе:
— Я тебя очень прошу. Возьми мой чемодан. Может быть, меня возьмут в лазарет, я тебя разыщу. Ты голая, возьми там, что есть, оставь мне пару белья.
Я говорю:
— Наташа, не бери, неизвестно, куда нас ведут.
Она говорит:
— Я возьму.
Вывели эту сестру раненую, стоит немецкий офицер, по-русски говорит. Эта сестра обращается к нему, спрашивает:
— Господин офицер, что будет со мной? Я тяжело ранена. Положат меня в госпиталь или бросят здесь?
Он ничего не говорит. Она обращается второй раз и плачет. Говорит:
— Бросьте меня.
Но мы ее с Ирой взяли под руки.
До ночи нас вели. Привели в сарай. Битком набили его. С нами раненые были. Один танкист был раненый. Обожженное лицо, страшные ожоги. Он так стонал. Было так жутко, что я не могла на него смотреть. Наташа терпеливо подходила к нему, выслушивала его. Он говорит, ничего понять нельзя. Наконец, она поняла, что он хочет пить. У нас был чайник. Набрали воды. Она свернула из бумаги трубочку и дает ему пить. Он с благодарностью гладит ее. Ночью он умер.
Наутро нас вывели, говорят:
— Жены офицеров, выходите.
Все молчат, боятся. Тогда он выходит со списком и читает. Прочитал фамилий 20, говорит:
— Идите в этот сарай, там ваши мужья.
Моей фамилии он не читал, но я пошла следом за ним. Там слезы. Оказывается, их в плен уже взяли. Один говорит:
— Разве мы будем жить, нас, наверно, убьют, ты береги детей. Из крепости вырваться не было никакой возможности.
Смотрю, один сидит на соломе. Я подхожу к нему, спрашиваю:
— Вы не знаете капитана Грибакина? Он говорит:
— Не знаю. Вот все прощаются с женами, а моей жены здесь нет. Разрешите, я с вами попрощаюсь.
Мы с ним поцеловались. Он предупреждает:
— Скажите всем женщинам, чтобы они не говорили, что их мужья политруки. Тогда они погибнут сами и нас выдадут.
Я поплакала с ними, вышла и тихонько передала женщинам об этом.
Потом нас опять повели. В следующую ночь мы опять в сарае ночевали где-то. Потом нас повели через Буг. Мост там был еще не достроен. Когда нас оставили устраиваться вечером, сказали:
— Идите получать ужин.
Кто имеет детей, моментально побежал.
— Во что же? — спрашивают.
— Идите, вам там посуду дадут.
Мы не пошли почему-то, точно я почувствовала. Женщины прибегают туда, там такой хохот раздается, так хохотали. Сначала дали всем кружки. Некоторые взяли даже больше, чем надо. А потом начинают хохотать и говорят:
— Идите к Сталину, он вас накормит.
Женщины со слезами возвращаются, но кружек не бросили, а одна захватила 4 кружки и нам дала.
Нас довели до моста. Раненая сестра идет с нами. Вдруг подъезжает телега и забирает раненых. Эта сестра попрощалась с нами. Наташа тащит чемодан, Ира ведет бабушку, а я идти не могу. Мы идем по бокам, а посреди моста шли мужчины. Вдруг вижу, кто-то меня подхватывает и к мужчинам. Оказывается, один военный увидел, что я не могу идти, говорит:
— Идемте с нами, а то вы упадете.
Шли под конвоем, правда, немного. Прошли мост. Раздается команда. Женщины остановились, а мужчин повели дальше. Здесь женщины все бросили. Наташа чемодан наш бросила. Кое-как перебрались через этот мост. Опять такая обстановка. Раненых с нами не было. Были легкораненые, которые молчали, что они ранены. Это были уже восьмые сутки.
Когда нас вели мимо нашего дома, после того, как хотели расстрелять, полька, жена дворника, возле моей квартиры подняла мешочек с сахаром. Она утром, в полдень и вечером откусывала по полкусочка зубами и давала нам. Больше у нас ничего не было.
Наутро раздается команда выходить. Мы встаем. Наташа не встает. Я думала, что она крепко заснула. Трогаю ее, голова у нее падает, она без сознания. Я перепугалась. Думаю: нас не будут ждать. Собрала последние силы, говорю Ире:
— Понесем ее на руках.
Подходит какой-то немец, говорит:
— Что, капут?
Я говорю, что грипп. Спрашивает:
— Матка?
— Да, — говорю.
Он выделяет двух поляков, говорит:
— Несите.
Я им не дала нести. Отдала им чемодан.
Опять нас привели в Брест через крепость. Там жуткая картина. Очень много наших убитых сидело скорчившись. Видела одного танкиста. Он сидит скорчившись, лицо совершенно сгорело. Жуткая картина. Валяются лошади, люди. Почти по ним пришлось идти, потому что гонят строем.
Потом идем дальше, сидят двое в нашей форме друг против друга и смотрят друг на друга. Оказывается, они уже мертвые.
Повели нас в крепость. Запах ужасный, все кругом разлагается. Были восьмые сутки, жара. Ноги с мозолями, почти все босиком.Прошли крепость, мост. По городу были трупы. Когда нас вели по проспекту 17 Сентября, без конца фотографировали. Я все время отвертывалась. Так смеялись над нами. Ой, как они смеялись. Кричат:
— Жены офицеров! Жены офицеров.
Вы представляете, какой мы имели вид. Наташа надела на себя хорошее шелковое платье, но во что оно превратилось? Конечно, мы имели ужасный вид, смешные и жалкие, и они очень смеялись.
Ведут нас, мы даже не знаем куда. Тихо, и никого нет, кроме немцев. Я маму ставлю парной. Держали ее под руки. Но тут мы несли Наташу, а мама на произвол судьбы одна оставлена. Попрошу знакомых:
— Поищите, где моя мать.
Она уже отстает, идет последней, а там ее солдат штыком толкает. Одна очень хорошая женщина Аношкина спасла мою мать.
Потом нас привели в Брестскую тюрьму. Выпустили нас во двор — и кто куда хочет. Потом нас выстроили полукругом. Пришло 12 немцев. Один, видно старший офицер, еще появился и с ним переводчик, потом врач. Сейчас же сказали: евреям выйти отдельно. Евреи многие прятались, не выходили, но потом их выдали. Потом велели выйти полякам и русским. Те вышли. Потом нам, восточникам, отдельно велели стать. Так нас группами расставили. Евреев моментально вывели из тюрьмы. Местным сказали: «Идите по своим домам».
Нас оставили в тюрьме, и начал ходить переводчик к одному, к другому:
— Скажите, кто здесь коммунист, комсомолец.
Никто, конечно, не сказал. Потом выделяется одна из наших. Я не знаю ее фамилии, так и не узнала. Восточных было очень много. Она ему что-то пошептала. Он подходит к одной. Она комсомолка, с ребенком. Спрашивает:
— Где ваш партийный билет?
Когда мы ночевали, она его порвала и бросила. Эта женщина видела, наша же, восточница, и ему, наверное, сказала. Та говорит:
— Я не имею билета, — побледнела ужасно. Он, правда, не очень к ней приставал.
— А комсомольский билет где? » Она говорит:
— Я не комсомолка.
— А какой же билет вы порвали? Она быстро нашлась, говорит:
— Профсоюзный.
— А разве профсоюзный билет тоже красный?
— Да, красный.
Он обращается ко мне, спрашивает:
— У вас профсоюзный билет тоже красный?
Я говорю:
— Смотря какой, были синие и красные.
Эта женщина затерялась между нами, но потом мы ее нашли.
Нас оставили в тюрьме. Занимай, какую хочешь комнату. Наша группа заняла маленькую комнату. Пол был в комнате деревянный, и все лезут к нам. Набилось нас человек 50. Когда мы ложились спать, каждый дрался за место.
Мы с Наташей возимся, не знаем, что с ней. Компрессы ей делаем. Лекарства никакого не было. Аношкина, еще одна боевая женщина начали лазить по всей тюрьме. Немцев не было, только одни часовые остались у ворот. Они находят аптеку, там масса лекарств. Они все это забрали, нашли стрептоцид, Наташе дали. У нее оказалась потом ангина. Почему ангина, понять не могу. Этот стрептоцид, потом Аношкина достала шоколад, и этим они спасли Наташу. Она начала приходить в себя.На пятые сутки к нам является комиссия, выстраивают нас во дворе, каждому дают паек в руки. Один говорит хорошо по-русски, один — врач. Я говорю, что у меня лежит дочь больная, не знаю, что за болезнь, может быть ее можно в больницу положить. Врач говорит:
— Едва ли.
Он хорошо говорил по-русски. Говорит:
— Я вам дам записку и попрошу, чтобы вас приняли в больнице завтра утром. Дали нам наши галеты, по сухарю, какой-то крупы немного и чаю. Тут же опять хохочут и говорят:
— Ежедневно будете получать. Это вам Сталин прислал. Оказалось, что эти запасы остались в тюрьме.
Я с этой запиской пошла к часовому. Часовой пропускает. Иду в больницу. Тишина в городе. Подхожу к больнице. Слышу топот. Едут немцы, все на машинах, на мотоциклах, на велосипедах, все прекрасно одеты, и их так много было, что [проспект] 17 Сентября вся была заполнена войсками. Я думаю: где теперь наши победят. Их было очень много, а, главное, все механизировано.
Вхожу в больницу. Там ни души. Прохожу одну комнату, вторую, третью, никого нет. Койки стоят, никого нет. Паек нам дали позже, а тогда мы ничего не ели. Смотрю, на столе лежит кусочек хлеба. Видно, кто-то кусал его. Смотрю на этот хлеб, так хочется схватить его. Думаю: «Это воровство». Стараюсь на него не смотреть. Я кашляю, стучу ногами, никто не выходит. Я уже чувствую запах этого хлеба. Думаю: «Ну, я его сворую». Схватила этот хлеб и не успела его проглотить, выходит сестра. Я думаю: «Она видела, как я его взяла». Она спрашивает:
— Что хотите?
У меня слезы в глазах стоят. Показываю ей записку. Она говорит:
— Ни в коем случае вас не выпустят. Я вам дам кое-что из лекарств, но в больницу вас никто не положит. Попробуйте ее отвезти в городскую больницу.
Иду обратно, думаю: зачем же я съела хлеб, я бы могла всем по кусочку дать. Прихожу, забираю Наташу и тащу ее на спине. Прихожу в городскую больницу. Там ее тоже не приняли. Тащу ее обратно. В это время идет полька, жена дворника, увидела нас, обрадовалась, говорит, что несколько раз приходила, приносила хлеб, но часовой не пропускает. Помогла мне Наташу дотащить, дала нам хлеба, сахара, кусочек масла, гребешок. У нас вшей у всех масса за какую-нибудь неделю.
Опять привела Наташу, но ей стало лучше. После нее слегла мать, у нее дизентерия. Мы ее поминутно таскали в уборную. Мыли холодной водой, простудили. Потом ей стало немного лучше.Прошло 3 недели. Нам сказали, что один из семьи может ходить и просить себе хлеба и одежду. Я пошла к женам одного капитана Шенвадзе и комиссара Крючкова. Они очень плохо меня приняли, попросили выйти, потому что у них немцы. Пришла к жене одного лейтенанта. Она очень нам помогла, дала белья, дала покушать, дала каких-то наволочек, полотенца. Мы с большим узлом от нее ушли. Она говорит:
— Если вас выпустят, приходите ко мне жить.
Потом нам сказали: кто имеет квартиры, может уходить. Пришли мы к этой Невзоровой. Потом освободилась комната. Хозяйка этого дома, полька, разрешила нам жить, и тут началась наша самостоятельная жизнь. Когда мы пришли из тюрьмы, все нами заинтересовались. Там жили в большинстве местные. Все побежали на нас смотреть, как на диких зверей. Кто тащил мыло, кто кушать, кто полотенце, кто одеяло, кто подушку. Кровати нам притащили. Была там женщина, врач Гейштер, страшно ненавидела советскую власть, но нам помогала. Была там еврейка, заведующая аптекой Рузя, эта тоже нам помогала.
Так мы начали там жить. Каждый день не будут нам носить кушать. Наши женщины пошли просить по деревням. Большинство наших женщин шло по деревням. Кто жил в городе, ходил просить по деревням. Очень помогали в деревнях, даже и не верилось. Девочки первые дни боялись ходить, страшно было. Я тоже не могла ходить. Я первые дни ревела. Мама моя оденет сумочку противогазную и идет в деревню, а девочки ее потом идут встречать. Хлеб давали, огурцы, а когда начали ходить далеко, там и сало, и белая мука, яйца. Они кормили нас, буквально, до 1943 года. Были такие, которые и обругают, и пошлют к Сталину, но большинство помогало, особенно под Кобрином, 50 км. Мои девочки ходили туда. На ногах ничего нет зимой, и мы шили из тряпок, навертим что-нибудь. Мама, бывало, принесет эту сумочку. Я сижу дома. Разделим эти кусочки хлеба. Уже не смотришь, грязные они или нет. Никакого стыда у нас не было. Были эти две кружки, которые нам дали.
Девочки стали далеко ходить в деревни, собирать с одной женщиной, но они не просили никогда. Эта женщина держит на руках ребенка, она просит, девочки молчат, но дают и им. Ходили раз в две недели. Приносили так, что они приходили, буквально согнувшись с этой ношей. За 30 км картошку уже не несли, а хлеб, фасоль, лук. Молока давали, сколько хотите, но как его нести.
Потом я смотрю, что так не прожить. Как раз приходит знакомая с халатом, как его сшить. Мы сняли выкройку с этого халата и стали шить. Машины не было, шили на руках. Потом родные Ириной подруги говорят: «Ходите к нам шить», и мы ходили на 4-й Брест — это далеко. Так жили до 1942 года. В 1941 году женщины поступали на работу. Кто не работал, тех увозили в Германию. Правда, Ира устроилась на завод чернорабочей, а Наташа в крепости работала, картошку чистила.
Поляки настаивали на том, чтобы нас выделить так же, как евреев, в гетто. Здесь был один адвокат Кшеницкий. Он особенно на этом настаивал. Он был большим начальником. Немцы почему-то на это не соглашались. Если кто-нибудь приходил и доносил, что это жена полковника, эта — комиссара, то ее забирали в тюрьму, а по¬том расстреливали. Кто сумел скрыться, к ним немцы ничего не применяли. Меня не вызывали. Только когда у нас был обыск [в] первый день, меня спрашивали, кто муж. Меня спасло то, что до 1939 года муж был в запасе, работал на железной дороге. Паспорт его почему-то лежал в моей сумке, и Наташа схватила эту сумку. Там видно было, что он железнодорожник. Я говорила всем: приехала сюда к родственникам в гости, а Наташа приехала на практику. Мужа здесь не было, и в доказательство показывала паспорт.
Архив ИРИ РАН. Фонд 2. Раздел VI. Оп. 16. Д. 9. Л. 1-5 (машинописный текст, копия).
* * *
И знаете что?
Они все остались живы.
Подполковник Алексей Яковлевич Грибакин вместе со своей частью отступил к Кобрину, служил в полевом управлении 13-й армии, дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I и II степеней и орденом Красной Звезды.
Надежда Матвеевна вместе с дочерьми дожили до освобождения. 21 декабря 1944 г. в Бресте ее проинтервьюрировали сотрудники Комиссии по истории Великой Отечественной войны Ф.Л. Еловцан и А.И. Шамшина.
АБ-СА-РА-КА
кровавая земля:
Рассказы жены офицера
Полковника Генри Каррингтона
ПОСВЯЩЕНИЕ
Этот рассказ посвящается генерал-лейтенанту Шерману, предложение которого было принято весной 1866г в форте Керни, и энергичная политика которого по решению индейских проблем и быстрого завершения Юнион Пасифик к “Морю”, сокрушила последнюю надежду на вооруженное восстание.
Маргарет Ирвин Каррингтон.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Абсарака, действительно, стала кровавой землёй. Трагедия, в результате которой в 1876г армия потеряла двенадцать офицеров и двести сорок семь храбрых солдат, была всего лишь продолжением ряда столкновений, которые привели к миру после катастрофы 1866г. Теперь можно больше узнать о стране, которая так зависела от вооруженных сил для расширения поселений и решения индейских проблем.
В январе 1876г генерал Кастер сказал автору, “Потребуется ещё одна резня Фил Керни, чтобы конгресс оказал щедрую поддержку армии”. Через шесть месяцев, его история, подобно Феттерману, стала монументальной благодаря подобной катастрофе. Имея большой опыт на границе - Феттерман был новичок - и с верой в способность белых солдат одолеть превосходящие силы индейцев, бесстрашных, храбрых, и несравненных наездников, Кастер считал, что армия должна сражаться с враждебными дикарями при любых обстоятельствах и при каждой возможности.
Краткая история событий в этой стране, имеет большую ценность для всех, кто интересуется нашими отношениями с индейцами северо-запада.
Приложенную здесь карту считали достаточно подробной генералы Кастер и Брисбин. Генерал Хамфрейс, руководитель инженеров США, указал на ней дополнительные форты и агентства.
Первое появление военных в этой стране точно представлено в тексте. Никогда не было более безумного порыва американцев, чем тот, который вынудил армию вступить в страну реки Паудер и Бигхорн в 1866г, исполняя волю безответственных эмигрантов, независимо от законных прав местных племен. Никогда не было более дикого захвата ради золота, чем присвоение Блэк-Хилс перед лицом торжественных договоров.
Время выносит на поверхность плоды необоснованной политики - соглашения 1866г в Ларами - простого обмана, насколько он касался всех племен. Эти плоды созрели. Павшие могут подтвердить это. Я готов заявить, что во время резни, если бы эта линия была разорвана, в будущем потребовалось бы сил в четыре раза больше, чтобы повторно открыть её; с тех пор, более тысячи солдат столкнулись с проблемой, которую тогда решали меньше сотни. Сражение за страну Бигхорн было представлено в одном заявлении: “Имея частичный успех, индеец, теперь отчаянный и ожесточенный, смотрел на опрометчивого белого человека, как на жертву, и Соединенные Штаты должны были послать армию, чтобы разобраться с индейцами северо-запада. Лучше понести расходы сразу, чем оттягивать и провоцировать войну в течение многих лет. Это нужно понять здесь и сейчас”.
Нет никакой славы в индейской войне. Если было сделано слишком мало, Запад жалуется; если сделано слишком много, Восток осуждает избиение краснокожих. Ложь правосудия находится между крайностями, и здесь представлено качество той индейской политики, которая была открыта в течение официального срока президента Гранта. Так мало правды, смешанных фактов, и такое сильное желание быть популярным, указав на козла отпущения, при первом общественном осуждении войны, которая длилась в течение шести месяцев, что, даже теперь, общественное мнение извлекло всего несколько неопределенных уроков из той резни. Действительно, потребовалась другая трагедия, чтобы попытаться разобраться в отношениях американцев с индейскими племенами, и решить эту проблем.
Генри Каррингтон
Ещё в школе Юлька стала меркантильной сукой, её абсолютно не интересовали сверстники. Ей, как она говорила, с ними неинтересно, поговорить, мол, не о чем. Хотя самой, если палкой по голове стучать, будет оглядываться, и спрашивать: «Где это стучат?». Любила, знаете ли, по клубам пошляться со ста рублями в кармане, на такси домой. Подружки у нее такие же были, помню пытался к одной подкатить, так она мне заявила, что мужчина без машины - не мужчины. Я потом вспомнил про это, когда на встречу выпускников на Лексусе приехал, вот это глаза у нее были. Если бы узнала, что Лексус не мой, расстроилась бы, наверное.
Рассказ-то, собственно, не про нее, рассказ, про Юльку, после школы поступила она в медицинскую академию, потом вроде отчислилась, сказала, не хочет шесть лет учиться, чтобы потом пятнадцать тысяч зарабатывать. Ушла в экономическую шарагу какую-то. Я уже и не помню где я в то время был, по-моему, завербовался после армии в экспедицию, на крайний север, кажется, не суть.
Встретил я в аэропорту как-то Димку, одноклассника, он и поведал мне замечательную историю о том, что Юлька осела где-то в Новосибирске и мечта её частично исполнилась, стала она санитаркой в больнице. Рассказ этот я забыл буквально через пять минут, я о своих буровых установках думал, оборудование нежное, а грузчики пьяные, как бы чего не случилось.
У меня есть друг Славик. 1964-го года выпуска. То есть, рождения. И заканчивал он в свое время ХВВАУЛ. Для тех, кто не в курсе, то это Харьковское Высшее Военное Авиационное Училище Лётчиков. Выпускался на МиГе-21. За его характерный вид данный девайс среди летунов получил стойкое прозвище «балалайка». Потому что крыло у него треугольного типа.
Осень начала 80-х. Все студенты-курсанты помогают колхозникам убирать урожай. Ну, и этих архаровцев тоже запрягли на уборку. Приехала с утра рота курсантов, выслушала задание председателя колхоза: «Копать отсюда и до ужина» и уныло принялась за вскапывание.
А надо сказать, что одна из полётных зон располагалась как раз неподалёку от поля данного колхоза. И рота курсантов, вместо того, чтобы копать, стояла в мечтательно-тоскливых позах, оперевшись на лопаты с тоской задирая головы, и смотрела как резвится в небе «пара» МиГов-21 (тогда был день полётов). В итоге было принято гениальное решение...
Произошло это в Москве, в академии имени Дзержинского (ныне Петра Великого). В теплую, темную летнюю ночь начальник третьего курса, будучи дежурным по академии, решил прогуляться вокруг территории Дзержинки...
Вдруг... Чу! Что за странный посвист раздается? Ринувшись на звук, он узрел следующую картину... Курсант, явно возвращающийся из самохода, медленно левитировал вверх вдоль казарменной стены. Порядком охреневший офицер подкрался поближе и увидел, что нарушитель на самом деле поднимается на веревке с привязанной к ней перекладиной (наподобие тарзанки), которая резво втягивалась в окно четвертого этажа...
Что делать? Налицо вопиющее нарушение дисциплины! Кричать бесполезно - только быстрее втянут сослуживца в окно. В силу темноты и того, что обозрению выставлена только филейная часть тела, опознать курсанта также не является возможным... Рассудив, что, судя по скорости поднятия бойца, действия его соратников весьма слаженны, а значит дело поставлено на поток, нач.курса предпринял гениальное, на его взгляд, решение - брать с поличным!
Выждав для конспирации минут десять, он подошел под окно и "громко и четко" воспроизвел посвист курсанта. Менее чем через минуту "карета была подана". Офицер аки гордый птах уселся на жердочку и подергал веревку - мол, тяните... Вознесение началось...
Броня, тксссть, крепка, а у высоких берегов Омура - Чисавые Родины стоятъ. И тишина...
Это все я написал чиста чтобе не набить три строки по-настоящему нехорошего мата, после которого лучше час не курить и минима часа три непитаццо. Истенно говорю Вамъ: готовьтесь кормить чужую армию, громадянчеги.
Я отслужил положенный нынче год. на дальнем востоке, попал в ВДВ. не совсем туда, куда собиралсо, но всё равно неплохо. Решил накатать компактный доклад о нынешней арьмии, "служба глазами младшего сержантика-срочника". Вдруг пригодится?
Главное впечатление от армии - стало значительно мягше. Всё, о чем рассказывали более зрелые знакомые, хапнувшие "той самой", ещё Советской Армии, никак не может сравниваться с детским садом, который мы имеем сегодня. Куча непонятных гражданских тёток, психологов, врачей, сотрудников прокуратур окружают юные стада и постоянно лезут к солдатикам с вопросами типа: "Нет ли температуры?", "Не обижают?", "Как настроение?". Главная движущая сила любой нормальной армии, звездюлина, нынче проявляется лишь втихую, вполсилы и как-то серенько. При мне двоих ребят-срочников отправили на 4 мес в дизель за (!) леща (пощёчину) вновь прибывшему из учебки капральчику при спросе за невыполнение приказа. Один звонок маме на гражданку, и у любого солдата или офицера могут возникнуть серьёзные проблемы. Один знакомый юрист рассказывал, что в подобных делах доказательства не особо важны, главное - заява.
Рассказ от третьего лица, достоверность гарантирована, так как рассказчик был весьма серьёзный человек и занимал к тому же ответственный пост. Повествование услышано им лично из уст одного из старших офицеров связи, который служил тогда на стройке века БАМе. Дело происходило тогда ещё в Ленинграде в начале 80-х.
В то время этот офицер, будучи ещё старшим лейтенантом, проходил учёбу в военной академии войск связи, где обучались не только граждане Советского Союза, но и из других соцстран того времени. Конечно, учились в основном молодые ещё мужики, которые своё свободное время проводили в различных развлечениях, а времени было достаточно, так как и денег.
Частенько свой досуг молодые офицеры проводили в ресторанах, как наши, так и офицеры из других соцстран. Как-то собралась у них интернациональная кампания и, как это водится, после принятия N-ых доз спиртного зашёл у них спор насчёт выпивки. Немцы стали утверждать, что русские не умеют пить водку - и это очень сильно задело наших офицеров.
В далекие застойные годы приехала на традиционную весеннюю (осеннюю) проверку в мотострелковый полк, базирующийся вдалеке от цивилизации комиссия, собственно для проверки этого же славного пехотного полка. Поскольку удаленность полка от руководства была значительной и очагами культуры гарнизон не был обременен, то и времяпрепровождение большинства офицеров в свободное от службы время было до банального простым. Примерно как в анекдоте: "Почему пьете? - потому, что она жидкая, а если бы она была твердая - я бы ее грыз!"
А тут проверка. Нужно отметить, что любая проверка начинается со строевого смотра всей воинской части, выходят в полной экипировке даже все хромые, косые и прикидывающиеся, за исключением внутреннего наряда.
Юный дикорастущий полковник - председатель комиссии с помощниками осматривает подразделения полка проверяя портянки, нижнее белье, шанцевый инструмент, содержимое и комплектность вещевых мешков солдат и тревожных чемоданов офицеров. Все как всегда - рутинно и до хруста в спине достало. И тут проверяющий не верит своим глазам.
В армии я не был, поскольку был студент. Так, разве что - на военке. А военка - она военка и есть. Чтоб приобщиться к общему героизму народных масс. Под занавес - когда учеба уже кончилась, а дипломов еще нет - случились сборы. В энском авиационном полку. Там такие большие самолеты. Типа аэробусов. Только для десанта. Ил-76, кто знает. Я согласно ВУС - штурман. Хотя, какой из меня штурман - одно расстройство. Студент. Но пришлось.
Кормили знатно. Это обнадеживало.
Голубой карантин называлось. В том смысле - для летунов.
Обмундировали. Портянки. Сапоги - в самый раз. Гимнастерка большеватая.
Размера на три. Или пять. Времен немецкой компании. Почти новая - совсем без дырок и без погон. Для «партизан». Напоминало игру «Зарница». Была такая у пионеров. И я в ней - как есть «партизанский штурман». В зеленой форме. Потому как летун.
Эту совершенно невероятную историю поведал знакомый военный хирург. Служил у них в гарнизоне один офицер. Пил безбожно. Вместе с ним проживали жена и тёща. Старая тёща совсем достала и супругу и зятя. Склочный её характер усугублялся маразмом и склерозом.
Однажды ночью, придя домой пьяным вдугаря, офицер решил положить конец страданиям семьи. Взяв молоток и гвоздь-десятку он с размаху вколотил его в голову пьяной тёщи. Типа, никто не узнает, отчего померла старушка - похороним и дело с концом.
Однако, проснувшись утром, он увидел тёщу живой и невредимой, готовящей завтрак на кухне. «Ну надо же, какой реальный сон приснился!» - ошалел офицер.
Недели через две тёща начала жаловаться на головную боль. Ну жена поначалу ей таблеток надавала, а тёща знай талдычит, что голова у неё болит. Пошла к терапевту. Та давление померила, какие-то лекарства присоветовала и отпустила болящую с миром. Но боль не проходила. На второй раз терапевт послала тёщу к хирургу. Хирург осмотрел голову и... тоже ничего не заметил. Потому что шляпка гвоздя покрылась корочкой похожей на перхоть.
Лето, Батуми, Советская армия. Мы с ребятами спрятались в маленькой мастерской и тихонько пережидали время между завтраком и обедом. Открылась дверь и Дима закатил на тележке какую-то штуковину.
Дима мой боевой друг, сейчас таких называют ботаниками, а тогда говорили: «Петя из дворца пионеров». Он знал наизусть название всех тиристоров и радиоламп, а уж приемник смог бы смастерить даже из двух ржавых гвоздей...
Короче умнейшая голова, но на стопроцентного ботаника Дима не тянул, характер не ботанический, ведь из осетина хреновый «ботан»...
И вот он уже как черный ворон с отверткой, нарезал круги вокруг облупленной железной штуковины зелено-красного цвета. Штуковина была похожа на замысловатый раструб автомобильной сигнализации, только размером с холодильник, на шильдике значился 196... затертый год. На вопрос общественности: «Шо это за байда...?», Дима объяснил, что это списанный и ловко стыренный им со склада излучатель инфразвуковых волн, только ему нужен специальный генератор.
Давным-давно главным инженером ВВС Московского ВО был генерал по фамилии Муха, интеллигентный, компетентнейший и всеми уважаемый.
На одном из подведений итогов разбирали нехарактерные (нетипичные) отказы авиционной техники. Один из офицеров докладывал об отказе на самолете, связанного со сбоем в работе приемника воздушного давления (ПВД). Дойдя до причины отказа ПВД, офицер сказал:
- А причина отказа оказалась банальная: в ПВД попала муха!
Сидящий в президиуме генерал Муха, встрепенулся, и посмотрев на офицера-докладчика поверх очков, заинтересованно спросил:
- Кто-кто туда попала?!